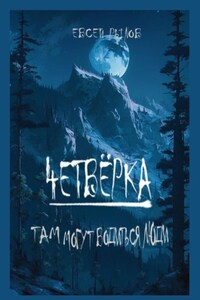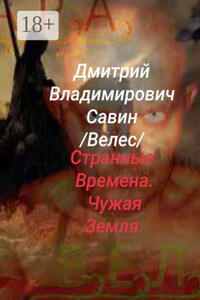Даскпа́йн был городом, где снег не таял и надежды замерзали вместе с последними лучами солнца. Местные давно привыкли к этому – к серому небу, к гулу фабрик и к скрипу старых домов, будто сами стены знали: время остановилось. Здесь не было лета, весны или осени. Только зима. Постоянная, тяжёлая, пронизывающая до костей. И никто уже не пытался считать дни.
Лукас Харпер родился в этом холоде и с ним же вырос. Ему было семнадцать, и почти каждый день его жизни был похож на предыдущий – и на следующий. Просыпаться в промёрзшей комнате, видеть изморозь на стекле, слышать, как метель бьётся в стены, как отец ворчит внизу, а за окном рычит город. Всё в Даскпайне было будто покрыто пылью времени и инеем страха. Страха перед будущим, которого никто не ждал.
Этим утром было особенно тихо. Снег ложился толстым слоем на окна, делая комнату Лукаса похожей на могилу. Он лежал на своей старой кровати, укрывшись двумя одеялами, но всё равно чувствовал, как холод ползёт по позвоночнику. Где-то в доме хлопнула дверь – отец уже встал.
Лукас медленно сел. Пальцы были онемевшими, дыхание выходило паром. Он натянул шерстяной свитер, который давно стал колючим и тесным, и подошёл к окну. За стеклом – белая мгла. Даже соседский дом почти не виден. Лишь темнеющий силуэт, будто призрак.
На полу лежала старая тетрадь – мать подарила её ему, когда он был ещё ребёнком. Он так и не стал в неё писать. Листы пожелтели, уголки изогнулись. Лукас поднял её, провёл пальцами по обложке. Сегодня он чувствовал что-то странное – не страх, не тревогу, а будто бы предчувствие.
Кухня встретила его запахом дешёвого табака и спирта. Марк Харпер, его отец, сидел за столом в своей привычной позе: локти на столе, голова низко, в руках кружка, в которой точно был не чай. Его лицо было небритым, тени под глазами тёмными, как сажа.
– Проснулся? – буркнул он, не глядя.
Лукас молча налил себе воды из крана. Вода шла тонкой струйкой, холодной, как лёд.
– Молчи, значит, – продолжал отец. – Всё молчишь и молчишь. Думаешь, если не говоришь, то тебя нет?
Лукас сел напротив, не притрагиваясь к воде.
Отец вдруг стукнул кулаком по столу. Пыль поднялась.
– Ты вчера деньги взял?
– Нет.
– Лжёшь.
– Я не лгу.
Марк пристально посмотрел на него. В его взгляде было что-то болезненное. Потом он поднялся, подошёл ближе, навис над сыном.
– Всё рушится, Лукас. Ты понимаешь? Деньги на исходе. Работы нет. Люди погибают в шахтах. Всё катится к чёрту.
– Я знаю.
– Нет, ты ничего не знаешь. – Он отступил, вновь налил себе из бутылки. – Ты не знаешь, что такое работать. Что такое быть мужчиной. Я был в шахте в твоём возрасте. А ты…
Лукас встал.
– Я ухожу.
– Куда?
– Прогуляюсь.
– Прогуляешься? – Отец засмеялся. – Мир рухнет, а ты прогуляешься?
– Да.
Он взял куртку и вышел, не дожидаясь крика в спину.
На улицах Даскпайна царила тишина, нарушаемая лишь хрустом снега под ногами и воем ветра, который никогда не утихал. Лукас шёл вдоль забора старой угольной фабрики. Её трубы были обледеневшими, из них не шёл дым, но всё равно казалось, что они живые – что-то в их молчаливом стоянии среди снега было тревожным. Двери, заколоченные досками, окна, выбитые и заледеневшие, напоминали слепые глаза.
Люди на улицах двигались быстро, молча, опустив головы. Никто не здоровался. Так было принято. В этом городе слова были редкостью, их берегли, как тепло.
Проходя мимо лавки Грегсона – старого магазина, где продавали уголь и керосин, – Лукас замедлил шаг. В витрине висела новая афиша. Он подошёл ближе.
«Набор на сезонную вахту. Шахтёрская база “Чёрная Впадина”. Высокая оплата. Риски: высокие. Подробности – в мэрии города».
Он смотрел на афишу и чувствовал, как внутри что-то сжимается. Это было предчувствие. Или страх.