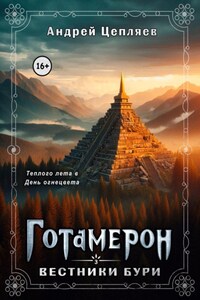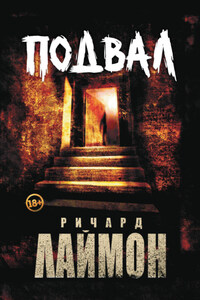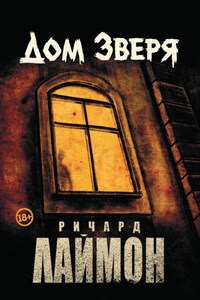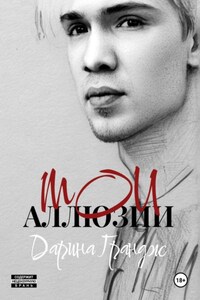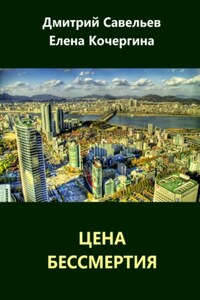Декабрь, окрестности Стрельны
– П-п-постольский, ты скоро там?! – сварливо прокричал Корсаков, стуча зубами почище испанских кастаньет. Он задрал голову и попытался рассмотреть друга, забравшегося на ветку дерева и вглядывающегося в ночную темень, что уже было задачей нетривиальной. На ресницы лип снег, он же приставал к шарфу, закрывшему нижнюю половину лица.
Жандармский поручик Павел Постольский понимал, что Корсаков зол. Как минимум по тому, как Владимир обращался к нему по фамилии, хотя обычно обходился именем. И, в принципе, Постольский признавал за другом право злиться. Поручику попалось донесение о неких странных событиях, произошедших на деревенском погосте под Стрельной (якобы там восстал из гроба недавно похороненный крестьянин из зажиточных). Информация заинтриговала Постольского настолько, что он направился к своему непосредственному командиру, ротмистру Нораеву, испросить разрешения провести небольшое самостоятельное расследование. Начальство скептически усмехнулось – но согласилось. Вот и отправился поручик морозным декабрьским днем на кладбище в тридцати верстах от столицы. А Корсакова уговорил составить компанию, для уверенности. Владимир ворчал и ныл, но друга решил не бросать – все-таки Постольскому пока не хватало опыта, и встреча с чем-то действительно зловредным могла окончиться плачевно.
Ничего «действительно зловредного» на кладбище не обнаружилось. Отрывшиеся из могил покойники (представлявшиеся Постольскому) оказались двумя крайне нетрезвыми (от принятого на грудь для храбрости спиртного) гробокопателями. Пойманные мерзавцы были поручены деревенскому старосте с наказом передать уряднику[1], когда тот появится. А Павел и Владимир отправились под вечер верхом обратно к станции пригородной чугунки[2]. Поначалу Корсаков не отставал от поручика с крайне остроумными (по его мнению) шуточками и предложениями, куда еще Постольский мог бы употребить свои усилия. Однако вскоре настроение у обоих переменилось.
Кроваво-красное заходящее солнце закрыли тучи, за какие-то несколько минут обрушившие на всадников снег и буран. Видимость упала до нескольких метров, а от лютого ветра не спасали даже корсаковская медвежья шуба и бобровая шапка. Дорога, еще недавно наезженная и широкая, перестала существовать. Даже в памятный канун Рождества в Москве, когда Постольский прорывался к Дмитриевскому училищу, метель не была такой яростной. Сейчас же Павлу вспомнились рассказы бабушки, утверждавшей, что свист ветра в буран может казаться то воем волков, то плачем ребенка. И, прислушиваясь к стенаниям стихии, поручик понял, насколько те истории были правдивы. В какой-то момент путники поняли, что окончательно сбились с пути. Тогда-то Постольский и решил забраться на дерево и попытаться разглядеть хоть какие-то следы человеческого жилья вокруг.
– Боже ж ты мой, Постольский, ты там что, видом любуешься? – напомнил о себе Владимир, держащий под уздцы двух усталых лошадей.
– Было бы чем любоваться! – откликнулся Павел. – Не видно ни зги! Хотя… Погоди-ка…
Он прищурился, попытался защитить от снега глаза, прикрыв их ладонями, и еще старательнее вгляделся в черно-белую круговерть вокруг. Показалось? Или действительно мелькнул вдали теплый оранжевый огонек?
– Кажется, я что-то вижу! – крикнул Постольский.
– А конкретнее? – съязвил Корсаков.
– Свет какой-то! Возможно, чей-то дом рядом!
– В какой стороне?
– Туда! – махнул рукой в сторону едва видимого огонька Павел.
– Понял! Погоди! – попросил Корсаков.
Когда Постольский спустился, его друг уже выудил из-под шубы круглый предмет знакомой формы и поднес почти вплотную к глазам, чтобы хоть что-то разглядеть.
– Это что, компас? – удивленно спросил Павел. – Ты таскаешь с собой компас?