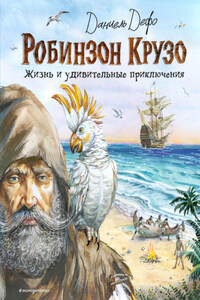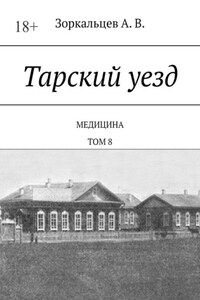Вода, льющаяся из высеченного в порфире и мраморе узорчатого шадирвана[1] в маленький, подобный блестящему зеркалу бассейн, отражала лунный свет четырнадцатой ночи лучше, чем фонтаны, украшенные электрическими лампами. Просторный мраморный двор особняка, одного из самых красивых в Дамаске, заливался ярким светом, словно был полдень. За пределами широкого мраморного двора, на лужайках садов, оставленных для цветов, кусты роз и жасмина местами отбрасывали тени, местами покрывали землю белыми лепестками, словно пятна облаков. Земля напоминала небо, небо напоминало землю, приятные запахи цветов, растущих под кронами деревьев, смешивались с ароматами жасмина и розы. Словно дождь лился с неба свет луны, воздух наполнялся дыханием природы. Несколько девушек, сидевших на стульях у фонтана, наслаждаясь свежестью, вели беседу. Одна из них спросила:
– Ситти[2] Бедия приглашена на сегодняшний вечер?
– Да, приглашена. Я видела её вчера, она собиралась прийти.
– Ах, вот бы она сыграла нам на лютне… Какая свежесть!
– Что за пустые слова! Разве не знаешь, что она не будет играть?
– Да, но я бы на её месте только бы и делала, что играла. Честно, не понимаю её.
– А что тут понимать? Она просто не хочет играть у всех на глазах, как другие музыканты.
– Какое высокомерие!
– Я бы так не сказала! Она же играет на лютне только для нас. Как можно так подумать? Она же не играет на свадьбах или кому-то по вечерам, – заметила одна из девушек.
Другая сказала:
– А вот и она!
С другого конца двора в сторону фонтана направлялись три фигуры, девушка в чаршафе[3], а за ней две темнокожие рабыни[4]. Все девушки оживились и разом поднялись со своих мест.
– Сестра! Как же долго ты заставила нас ждать. Уж было начали волноваться, что ты не придешь, – сказала одна из них.
Бедия сбросила с себя бордовый чаршаф с шелковой вышивкой. Она развязала узелок на поясе, юбка поверх её крепового энтари[5] упала на белый мрамор двора.
– Неужели вы ждали так долго? – сказала она.
Каждая предлагала ей свой стул.
– Посидишь с нами немного? – спрашивали они её.
Бедия уселась между ними. Из смотревших во двор окон крытой террасы, которая переходила в большую гостевую комнату, бил свет множества свечей, казалось, что внутри было очень людно. Взор Бедии был устремлен на террасу, как на панораму, в которой виднелись роскошные люстры, разноцветные абажуры, силуэты женщин в платьях из розовых и желтых тканей. По звукам мизраба[6], гуляющего по струнам, стало понятно, что сейчас настраивали канун[7].
Заметив, что Бедия задумалась, одна из девушек сказала:
– Хоть ты и беседуешь с нами, а всё смотришь в окна зала.
– Мой взор и сердце всегда там, где играет инструмент. Я пойду, – сказала Бедия, поднялась и быстрым шагом направилась к особняку.
Мраморный пол террасы разделялся на две части бассейном, в который непрерывно текла вода из шадирвана. Помимо двери, ведущей со двора, на террасу можно было войти через другую дверь на противоположной стороне бассейна. Через эту дверь, над которой висели разведенные в стороны позолоченными кисточками голубые бархатные шторы с вышивкой, можно было разглядеть богатое убранство комнаты. Скамьи, расставленные вдоль стен, были обиты расшитой позолотой бархатной тканью, вокруг комнаты были постелены разноцветные хлопковые ковры и шёлковые ткани, стены украшены золотым орнаментом, а полки, также украшенные позолотой, до потолка были уставлены ценной посудой.
Когда Бедия вошла, то увидела в центре переполненной террасы певицу-еврейку, которая, закрыв глаза и положив руки на канун, уже начала затягивать мелодию своим трогательным голосом. Щеки ее были нарумянены, брови подведены сурьмой, на голове был острый хотоз