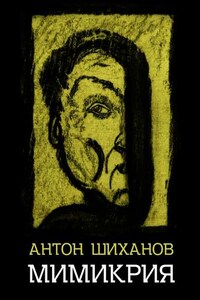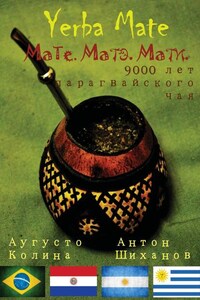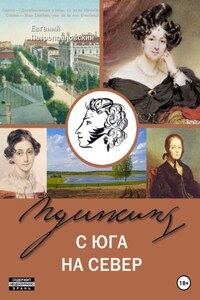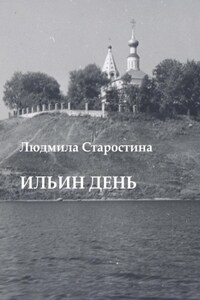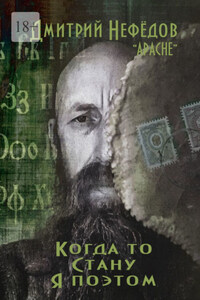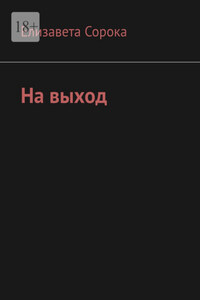Das Häuschen auf Kirchen-Straße
Меня потрясло не то, что ты солгал мне, а то, что я больше не верю тебе.
Фридрих Ницше
Мой папа был доктор, поэтому ему было не сложно сделать меня и моего брата больными. Нет, мы были вполне здоровы, но папа говорил, что не хочет, чтобы его младший сын, то есть я, нашел себе занятие в гитлерюгенд, а старший, Мартин, сгинул где-нибудь на полях Европы. Я был этому рад, потому что не хотел умирать, это было страшно; а брат, потому что не хотел погибать за фюрера. В начале войны этого и не требовалось, поэтому я жил спокойно, наш город утопал в зелени, от набережной ветер доносил пронизанный йодом запах моря, и, не взирая на холод, ветер, и иногда сильно бушующие волны, я с друзьями бегал купаться в прохладные воды Балтики, а потом, усталый, отдыхал на великолепном песчаном пляже, недаром это место частенько именовали Дюной.
Нас было мало, постоянных жителей, всего-то около двух тысяч человек, тогда как отдыхающих, после открытия железнодорожного сообщения между нашим городом и Кенигсбергом, с каждым годом становилось все больше, и частные квартиры, вкупе с пансионатами и курхаусами, уже не вмещали всех желающих.
Хотя город и хорошел с каждым годом, он так и не стал общегерманской здравницей, оставаясь курортом местного значения.
Я родился в 31-м году. В это время уже вовсю звучали слова о позорности версальского мирного договора для немцев. Вокруг многие соглашались: нация была поставлена на колени. Тем не менее, общество было расколото. Одна половина жаждала реванша, а вторая, наоборот, ничего не требовала, мечтая лишь о спокойной жизни, чтобы никогда больше не вспоминать про ужасы первой мировой.
В моей семье тоже не было единства; отец и старший брат, которому к тому времени уже исполнилось десять лет, были настроены пацифично, а вот дядя, тот пылал воинственным духом, рвавшись сокрушить мерзких англичан, проституток-французов и многочисленные славянские орды, отвоевав жизненное пространство для германской расы.
Конечно же, я не помню всего, что происходило в годы, когда наша страна окрасилась в коричневый цвет, а у государственных учреждений, вместо символов Веймарской республики стали развеваться красные стяги с черной свастикой посередине. Моя Германия сразу же была национал-социалистической. И я с детства привык слышать громкие призывы к нации, кричащие сквозь шипящий репродуктор голосами фюрера, Геббельса, а также различных гаулейтеров.
Иногда в нашем городе ораторствовал и наш бургомистр – он же начальник курорта. Во время радиопропаганды моя мать раздраженно выключала приемник, а отец, если был дома, наоборот, испуганно включал его погромче:
– Хельга, все должны слышать, как ты любишь фюрера. Никогда не выключай радио! Нравится тебе это, или нет, но мы должны слушать его речи. Ты что, забыла, что твоя двоюродная сестра замужем за евреем? Пока нам удается это скрывать, но что будет дальше?!
Мне было шесть лет, когда наша семья первый раз испугалась: в Нюрнберге, Кенигсберге и других крупных городах прошли еврейские побоища, и хотя никто не смог бы усомниться в чистоте арийской крови моей семьи, имея в родственниках еврея, было чего опасаться.
Городок всегда был курортным. Нет, когда-то, несколько веков назад, он зародился как рыбацкий поселок, но на моей памяти это место было ничем иным, как курортом, в отличие от промышленного Пальмникена, или военного Пиллау.
Каждый, кто приезжал в наш город, мог найти всё, чем манили курорты в первой трети двадцатого века. Приморский район, «Дюне», привлекал любителей морского отдыха, в то время как «Орт» был Меккой для тех, кто не мог представить свой отпуск без запаха нагревшейся на солнце хвои.