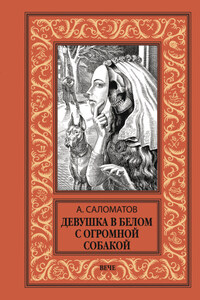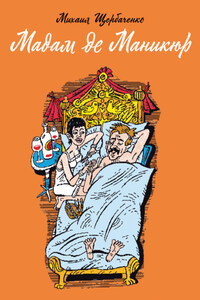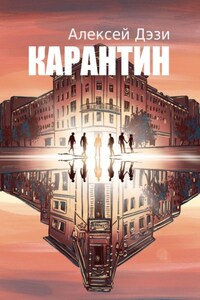У Петра Лагутина крепкое хозяйство: крестовый дом, баня с кухней, сад в девять яблоневых корней, крытый баз на корову и четыре свиньи. За баней – огород и бахча, позади которых в пологих берегах бежит лазурная речка. Да и сам Петро крепок и черен по-молодому, в волосах ни сединки. Несмотря на то, что в разговоре с другими бывает он резок, с женой своей он больше молчит. Кажется, та имеет над ним какую-то власть. Да и не власть вовсе, а так: то ли жаль ее бывает, то ли винится перед ней за что-то давнее. Кто ее знает! – а только поругается с ней из-за пустяка, помается немного и виновато подходит:
– Ну, ты это, ладно… не серчай.
Тридцать с лишним лет прожили вместе, четверых детей вырастили и в люди отправили, а все как-то не мог привыкнуть к ней; все казалось ему, что через силу она как-то жила, пресно. Ни праздник ей не в праздник, ни горе ей не в горе. Вроде как что-то давнее она не могла простить ему.
Лет семь назад ездил Петро в город продавать мясо, а вернулся обратно без денег, без обновок, что заказала ему жена. Глянулась Петру на базаре гармошка. Рыжий парень, поставив ногу на скамейку, наклонив голову, словно прислушиваясь, так наяривал на ней, постукивал в такт носком по лавке, что у Петра не было сил уйти. Стоял и слушал. Отыграв, рыжий спросил цену. А цену, Петро слышал, продавец назвал ломовую. Парень только свистнул, пробовал торговаться, но продавец гнул свою цену и не уступал ни копейки. Вздохнув, парень застегнул ремешки и поставил гармонь на скамейку. Петро пощупал карман, в котором лежали деньги, и решился…
Полдня Зинаида бушевала.
– От паразит! – кричала она, шлепая его по спине деревянным кружком, на котором только что чистила рыбу. – Я тебе чего говорила купить? А?
Петро сидел, стойко перенося удары, наклонившись и сгребая в руках гармонь, чтобы ей не попало, тихо пытался вставить два слова.
– Да ты… ты погоди…
Зинаида снова бралась его охаживать.
– Я т-те подожду. Я т-те подожду!.. Неси ее обратно, а деньги мне положь. Щас же! Щас же положь, паразит!
– Где я тебе теперь этого мужика найду?
– Где хочешь бери, а мне штоб щас же деньги были!
Петро был неприступен; доска наконец раскололась надвое, и Зинаида, устав, ушла голосить в избу, а он стоял среди двора, с облегчением чувствуя, как затекают, ноют спина и плечи. Поводя ими, проверил: целы ли кости, подумав, ушел в кухню.
Две недели он жил в бане. Ходил на реку, удил рыбу и жарил ее там же на костре. Поев, вытирал об траву жирные руки, умывался, брал гармонь и, сидя на лодке, глядел на светлеющую на закате воду, тихонько играл, вспоминал старые песни:
Ой, как под грушею-грушею,
Под зеленой грушею,
Там сидела парочка —
Казачок да бабочка.
Голос этой гармошки Петро помнил хорошо. Помнил и то, как в последний раз видел ее. В голодную военную зиму. Мать пришла с фермы после вечерней дойки и, войдя в избу, устало села у двери на лавке. Снег таял на валенках – не было сил снять их. Сестра Наташка высунулась из-за печной занавески:
– Ма! Хлебушка принесла?
Губы матери дрогнули. Она глянула на Петра, сидевшего за уроками:
– Петь, а может, давай гармонь продадим?
– А папка как же? Придет, а гармони нет.
Мать уткнулась в платок, молча затрясла головой.
– Мам! Ты чего?
Та вытерла глаза, вздохнула:
– Сыграй, сынок, «Под грушею…»
Он играл, а она тихо пела, покачиваясь и вытирая глаза. Петька с Натальей подпевали:
Там сидят они вдвоем, разговаривают.
Ты гуляй, гуляй, бабеночка,
Поколь волюшка твоя.
Муж со службицы придет,
Всю-то он волюшку уймет.
Утром, пока они с Наташкой спали, мать положила гармонь в мешок, уехала в город.