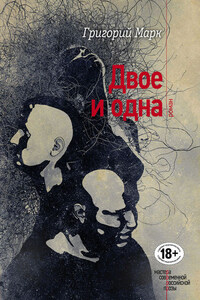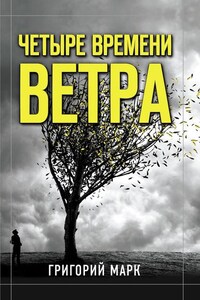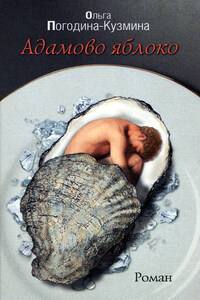Пиджак капитана Дадоева распластался над полированным столом. Золотом по синей эмали мерцает университетский ромбик. В отделанном дубом кабинете приглушенный свет. Капитан старательно записывает мои показания. Размытым латинским V набухли вены на выпуклом лбу. В глазных скважинах плещется густая белесая жидкость, которая ближе к переносице сгущается и становится бледно-зеленой. А под ней – где-то на самом дне – блестящие, неподвижные зрачки. Я думаю, эта жидкость с шевелящимися в ней невидимыми колбочками и палочками работает как своего рода проявитель, когда он изучает негативы секретных документов. Во время допроса капитан никогда не моргает. Это могло бы сделать его человечнее. Безбровое лицо альбиноса с розоватой лоснящейся кожей – волосы на таком не растут – и прилипшей к губе сигаретой. Раздувшаяся белая шея, на которой еле заметен маленький круглый подбородок. Через пару лет он сбежит – или его сбегут? – за границу. Это теперь он только капитан, но, я уверен, в предыдущих жизнях чины его в войсках НКВД были гораздо выше.
Допрос начался в девять утра. А сейчас десять вечера, если верить настенным часам. Хотя верить тут ничему нельзя… Конечно, можно просто опустить веки, и капитан расплющится в бесформенное пятно. Но злить его опасно – еще решит, что я притворяюсь спящим… Повезло, хоть на обед отпустили… С утра допрашивал другой капитан. Тоже с ромбиком. Все они тут, словно белые хищные рыбы с ромбиками на чешуе, обитающие в подземных озерах и никогда не видящие солнца. И пахнут они одинаково. Униформа запахов. Приторно, удушливо. Будто одним и тем же одеколоном мазаны.
С Дадоевым две недели подряд «разговариваю» – каждый день, кроме выходных. Дело, по которому взяли трех моих близких друзей, тогда еще только начиналось, и в любую минуту из свидетеля я мог оказаться обвиняемым. Отвечаю очень медленно, невнятно, занудливо, без всякого выражения. Так ему быстрее надоест. Да и свои душевные силы беречь надо. «Я вот м-мм забыл… Не, ничего не помню…» У стен есть уши. Особенно у этих стен… Вообще-то я довольно редко лгу. Стараюсь не делать этого без крайней необходимости. Но сейчас нет выхода… Дадоев у меня – ведущий. И конвейер моих допросов в конце каждого дня выключает он. Остальные меняются. А он ведет. И его кто-то ведет. Контора работает, распорядок зла расписан до мелочей.
В одном я уверен: то, что происходит здесь со мной, происходит совсем не случайно. И с другими тоже… – пытаюсь найти слова, которые могут подняться вверх... – Все важное совершается для какой-то еще неясной цели. Ради нее я здесь. На самом деле лишь это и предохраняет от того, чтобы сразу положить конец. Предохраняет от самоубийства… Слишком много судьбы… Ведь не случайно же я родился евреем в Советском Союзе, не случайно столько лет пытаюсь отсюда уехать и меня не выпускают. Нет, таких совпадений не бывает. Кто-то ведет меня и моего ведущего, и тех, кто ведет моего ведущего. Все мы ведомые. Ни один свет полностью не погаснет…
Слоистый дым клубится вокруг настольной лампы. Дремлет бронзовый Железный Феликс на постаменте в углу. Окна занавешены пыльными, всегда задернутыми шторами цвета сияющих зорь коммунизма, – солнце сюда не доходит – косой просвет между ними, словно узкая щель из малой зоны в большую. Шум города, звонки трамваев на Литейном сюда не проникают. Белая ночь притаилась за серыми бетонными стенами. Тишина, будто нас лишь двое в мертвом Большом Доме, двое, плотно обернутых синим никотиновым облаком. За эту неделю память об этой комнате с пишущим капитаном стала единственным, что еще соединяет глубокие ямы между допросами, куда проваливаюсь, как только прихожу домой и ложусь на кровать. Ямы, на поверхности которых колышутся мои темные, тяжелые сны. Даже не сны, а длинные сонные обмороки. И с каждым утром все труднее вытаскивать себя из них.