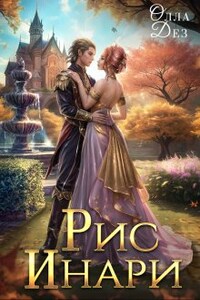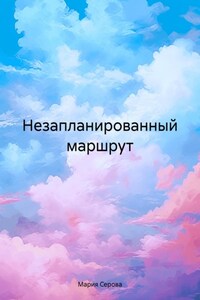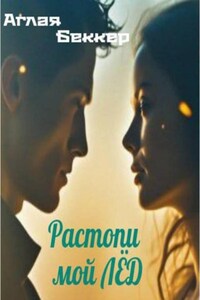Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный…
Марина Ивановна Цветаева
Год 1730.
Александр Иванович
Измайлов.
Я глубоко вдыхал терпкий весенний
воздух старого Дрездена.
После почти двух месяцев,
проведенных в местной тюрьме, воздух свободы казался мне особенно
сладким.
‒ Вам невероятно повезло, герр
Измайлов, что ваше прошение все же было рассмотрено и принято
положительное решение по вашему вопросу, ‒ проскрипел над головой
по-немецки противный голос местного стряпчего. ‒ И тем не менее,
несмотря на снятие обвинений, вам предписано незамедлительно
вернуться в Россию.
‒ Завтра же уезжаю, ‒ миролюбиво
сказал я, но мысленно показал этому противному старикашке жирную
дулю.
Пока все дела не утрясу, никуда не
уеду!
‒ Александр! ‒ громко по-русски
позвали меня.
‒ Сергей! ‒ махнул я другу
рукой.
‒ Всего вам наилучшего, герр
Измайлов. Надеюсь, что мы с вами больше не увидимся, ‒ мне в спину
донеслось противное жужжание, на которое я уже и не думал обращать
внимания.
Я подлетел к другу, и мы порывисто
обнялись.
‒ У меня экипаж. Садись, Алекс, и
поехали к нам в особняк, ‒ улыбаясь, сказал друг.
Мы сели в экипаж и я, откинувшись на
сиденье, решительно произнес:
‒ Нет! К Эмбер!
‒ Поехали домой, переоденешься,
посидим, выпьем, поговорим, я расскажу новости с родины.…
‒ Нет. Сначала к Эмбер, а потом все
остальное. Поехали к ней! ‒ решительно помотал я головой.
‒ Алекс, дело в том, что… Нельзя
тебе к ней, ‒ смутившись, сказал друг.
‒ Что?! ‒ и у меня все похолодело в
душе и сердце зашлось от нехорошего предчувствия.
‒ Она замуж сегодня выходит, ‒
отведя глаза, сказал друг.
‒ Нет! Это ложь! ‒ схватил я друга
за камзол.
‒ Прости, но у нее венчание в
одиннадцать в церкви Трех волхвов, ‒ пытаясь оторвать мои руки от
своего камзола, быстро сказал друг.
‒ Гони! ‒ крикнул я и буквально упал
на сиденье экипажа.
Лютеранская церковь Трех волхвов
была довольно большой. Правда, ее сильно портило отсутствие
колокольни, и располагалась она в заречной части Дрездена.
Домчались мы туда быстро, и я вывалился из экипажа, чтобы увидеть,
как в открытые двери выходит свадебная процессия.
Поздно!
Эмбер… Моя Эмбер…
Она была очень бледна, глаза были
красные и воспаленные. На хорошеньком личике они особенно
выделялись, потому что за те два месяца, что я ее не видел, Эмбер
заметно похудела. Щеки впали, а лицо осунулось. Моя Эмбер была и
так небольшого росточка, стройной, миниатюрной и хрупкой, как
фарфоровая статуэтка, которыми так знаменит этот древний город. Я
помню, как много раз сравнивал мою Эмбер с этими удивительными
изделиями местных мастеров из саксонского фарфора. Но сейчас она
выглядела болезненно-худой, как будто все краски и всю живость в
ней сурово растоптали грязным солдатским сапогом.
Эмбер София-Шарлотта Эозандер фон
Гёте, старшая дочь знаменитого архитектора Иоганна Фридриха
Нильссон Эозандера, барона фон Гёте и его жены Марии Шарлотты
Мериан. Помню, когда мы обсуждали с Иоганном Эозандером нашу с
Эмбер помолвку, барон с гордостью сообщил мне, что назвал дочь в
честь прусской королевы Софии-Шарлотты Ганноверской. И в честь
Янтарного кабинета, который очень любил и проектом которого весьма
гордился, ведь Эмбер и означает «янтарь».
Эмбер на тот момент было всего
шестнадцать, и мы тогда договорились отложить свадьбу. К сожалению,
мой друг Иоганн Эозандер, барон фон Гёте в тот же год и умер, но
помолвку с его дочерью мы все же заключить успели. Я помню, как
мать Эмбер, Мария Эозандер, баронесса фон Гёте, уверяла меня, что
все договоренности в силе.
И вот теперь я смотрел, как тень
моей Эмбер выходит из лютеранской церкви под руку с другим.
‒ Алекс, не дури! ‒ друг решительно
встал у меня на пути, загораживая мне дорогу к церкви.