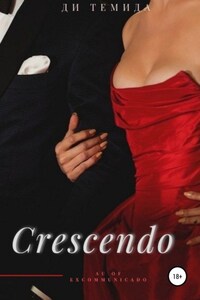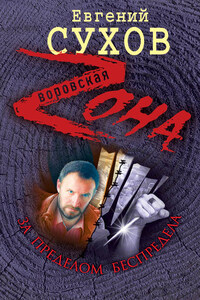15 января 2015 года, Нью-Йорк
– Святой отец, я…
Голос ломается, трескаясь, словно лёд на озере. Я сглатываю, ощущая, как саднит в глубине глотки.
Много ли людей после очередного сеанса психотерапии вдруг решают обратиться к вере? Навряд ли. Особенно, если никогда не были благочестивыми христианами – и католиками, – да и в церковь-то забрели лишь потому, что ноги сами свернули с заснеженной улицы в непривычно тихий, по сравнению с шумным Уолл-Стритом, двор. Ну и конечно, если эта самая терапия, кажется, больше не работает.
Тринити-Черч1 встречает темнотой и прохладой, исходящей от стен. Здесь оглушающе тихо. Настолько, что я слышу шорох мерзких мыслей в своей голове.
– …Я согрешила, – собравшись с силами и решив идти до конца, всё-таки договариваю фразу, до этого ни разу не используемую и услышанную лишь в кино.
Однажды.
Словно в прошлой жизни.
Опустив глаза, замечаю, как под подошвами замшевых ботинок расходится лужа растаявшего снега – в ней золотится свет, отбрасываемый бесчисленным множеством свечей в главном зале храма. Он проникает сквозь плохо прикрытую алую шторку кабинки для исповеди.
Я вздрагиваю и тянусь закрыть её как следует, хотя в церкви нет никого, кроме меня и молчаливо ожидающего продолжения священника за резной деревянной створкой по правую руку. Тайну исповеди никто не отменял, но она охраняется лишь священнослужителями; случайные же слушатели запросто могут донести в полицию. В общем, осторожность не помешает – то, что я собираюсь сказать дальше, действительно должно остаться лишь в сознании служителя дома божьего, в его тёмных стенах и на дне моей развороченной души, которую, уверена, всё равно уже ничем не отмыть и никак не отстроить заново.
Да и существует ли она у меня после содеянного?..
Ведь я даже не собираюсь на самом деле получать отпущение грехов – то, что совершила я, навряд ли сможет простить хоть какой-либо известный человечеству бог. Но что сделано, то сделано – я уже здесь, сижу, сжимая сумочку на коленях, и не чувствую сил, чтобы отступить. И чтобы продолжить…
Что-то же меня сюда привело по дороге от мистера Моргана, моего лечащего психотерапевта. Хотя, конечно, туман в голове и сковывающее конечности безволие – не самые хорошие путеводители, но лучше уж так, сюда в церковь, чем продолжать бесцельно брести по улице, упереться в какой-нибудь тупик и окончательно склониться к мысли о самоубийстве. Это единственное, на что у меня, кажется, воли бы хватило.
– Поведай о своих грехах, дитя моё, не утаивая ничего. И да поможет тебе Господь, – вдруг раздается вкрадчивый и мягкий голос священника, который, кажется, устал мириться с затянувшейся паузой.
– Я хочу покаяться в убийстве двух… близких мне людей. И во лжи.
***
Таксист то и дело бросает на меня, сидящую на заднем сиденье, пытливый взгляд. Еле слышно с горечью хмыкаю, представив, как выгляжу в эту минуту – с неидеальной укладкой, мертвецки бледными щеками, несмотря на мороз, и прислонившись лбом к стеклу, будто меня сейчас стошнит.
Наверное, не может сопоставить эту картинку с налетом пафоса на адресе, который я ему назвала, – машина поворачивает в Гринвич-Виллидж, шурша шинами по снегу и льду, и зрачки хаотично двигаются вслед проносящимся аккуратным домам.
Слышу звук тормозов и АБС. Когда такси останавливается у огороженного особняка, вместо того, чтобы выйти, я прикрываю отяжелевшие веки, желая навсегда остаться в этой уютной позе у окна в тёплом салоне, где лишь стекло контрастом холодит кожу.
– Мисс… – осторожно произносит водитель, судя по акценту – пуэрториканец, и я чуть было машинально не поправляю его обращение. – Приехали, мисс.
Но одергиваю себя, как и ткань чёрного пальто, чтобы заодно серебристые застёжки попали друг на друга. Дрожащими пальцами берусь за них, а другой ладонью протягиваю ему двадцатку, выуженную из сумки.