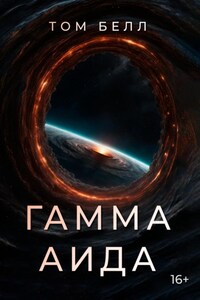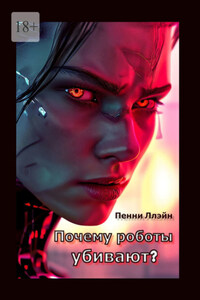Памяти Лили
Мама сильнее меня, и, если она по-настоящему решит что-нибудь такое нехорошее выкинуть, я не справлюсь.
Мне кажется, иногда я могу вспомнить этого ребенка – его мысли, переживания, его страхи. Страх, думается мне, определенно был, но насколько это был страх за себя?
Ребенок не понимал и был в смятении, а мама… мама была сильнее, была неоспоримой, любимой и выше неба в детских глазах. Она не могла причинить вред, в такие вещи просто не веришь.
Мама лежит на своей смятой постели, а я сижу в углу и жду, когда на нее подействуют десять таблеток ацетилсалициловой кислоты – последние в нашем доме. Потихоньку даже строю смутные планы о том, как бы пополнить запасы лекарства. Это так просто и так невозможно. А еще еда – она тоже заканчивается. Слишком много проблем.
Мама почти ничего не ест, я тоже могу потерпеть, но ей нужен сахар, а его почти не осталось. Она всегда просит, чтобы вода была сладкая, и рядом со мной стоит полная кружка. Я жду, когда мама вернется.
В комнате полумрак, шторы задернуты, потому что в последнее время я очень редко выглядываю на улицу – вид за окном внушает безотчетный ужас, и совершенно не представляется, каково это будет туда выйти. Но придется.
Мама лежит неподвижно, и мне страшно вымолвить и даже подумать о том, на что это похоже, но со мной мое терпение – это то немногое, что у меня осталось. И надежда, конечно же, хотя там, в то время, я не могу выразить всех своих мыслей и чувств. Вспоминая, мне кажется, что ребенок был подвешен в пустоте, выдернутый из привычного мира, лишенный точек опоры, не знающий, не понимающий, как реагировать на новые условия, но делающий все возможное, все возможное, чтобы вернуть свою жизнь, то, что считал своей жизнью. Полагаю, я горжусь этим ребенком, собой из этого прошлого.
Лекарство начинает действовать, я вижу это по тому, как начинает вздыматься мамина грудь: поверхностно и часто-часто, будто дрожь, будто рябь на поверхности водоема, и дыхание ее становится слышимым – все больше, переходит во всхлипы и постепенно – не сразу – выравнивается.
Мама поднимает вверх правую руку и одновременно открывает глаза. Растопыривает пальцы, долго смотрит на них, и на ее неподвижном лице проявляется мимика: она хмурится, подергивает губами, моргает. В горле ее возникают хриплые звуки. Не сразу, не с первой попытки, но ей все-таки удается произнести:
– С-Сашка?
– Я здесь, мамочка! – кричу я, срываясь с места.
Первым делом трогаю мамин лоб – все еще горячий, но уже не настолько. А иначе и не будет. У меня есть платок, пытаюсь вытереть выступившую на ее лице испарину, пытаюсь укрыть ее, потому что она дрожит, пытаюсь обнять ее, не могу сдержаться и целую ее в пышущую жаром щеку.
– Мамочка, ты проснулась! Так долго!
– Я? Кто?
Она слабыми жестами отталкивает меня, силится сесть, и я ей помогаю – со всей осторожностью, своей детской заботой и нежностью.
– Я хочу пить? – спрашивает мама; голос ее дрожит и все еще не может найти верный тембр. – Я хочу пить. Кто?
Я подношу ей кружку и держу ее своими тонкими слабыми руками, пока мама пьет, глядя в пустоту перед собой.
Потом она просто сидит, все также смотрит в никуда, и я сижу у ее коленей, – бесконечное ожидание – это то, чему мне пришлось научиться.
Постепенно черты ее лица разглаживаются, невыразимое, запредельное выражение покидает ее, мама как будто успокаивается, хотя и выглядит невероятно усталой. Наконец она обращает на меня внимание.
– Я же просила больше этого не делать. Зачем? Я просила? Я попрошу. Ты не понимаешь, Сашка.
– Ты же болеешь, мама, – почти шепчу я, обнимая ее ноги.
– Ты ничего не понимаешь.
– Я люблю тебя, – совсем уже шепчу я, – сильно.