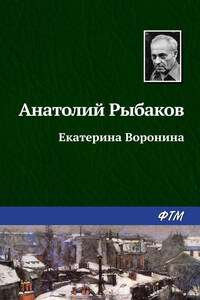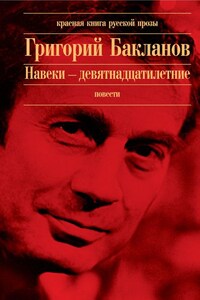Сегодня, в ночь полнолуния, я начинаю рассказ о Флаге миноносца, о людях, которые его несли, о событиях недавних лет, уже ставших историей и сохраняющих в то же время живую силу впечатлений сегодняшнего дня. Я пишу этот рассказ для друзей: для тех, которые живы, и в память тех, которых уже нет, а главным образом ради тех, что еще не родились на свет. Когда они придут в этот веселый и звучный мир, когда возьмут в руки циркуль или резец, пусть знают, что когда-то мы отказались от резца и циркуля, от кисти и карандаша, чтобы им не пришлось сжимать потной ладонью отполированный до блеска приклад автомата.
Сегодня – ночь полнолуния, и город спит в эту светлую ночь, свежий и обновленный. Четок рисунок полуобнаженных ветвей и прозрачен воздух. Перламутровый свет льется на мир. Я вижу реку и новый мост, взметнувшийся над нею, – как рука, протянутая в будущее. В окнах горит свет. Их много, этих окон, и если подойти ближе и присмотреться, то можно заметить, насколько различен их цвет. Есть окна оранжевые и светло-желтые, как разрез лимона, есть красноватые, розовые, даже голубые. А вот окно, светящееся сиреневым отливом на пятом этаже большого дома. Я знаю это окно и эту квартиру. Там живет мать Андрея Земскова. Вот о нем, о моем друге Андрее, я хочу рассказать. Но не только о нем. Я хочу рассказать обо всех. О моряках и летчиках, о пехотинцах и кавалеристах и уж, конечно, об артиллеристах, потому что мой друг Андрей – артиллерист и самому мне тоже пришлось заниматься этим почетным ремеслом.
Но может ли один человек рассказать обо всем? Это под силу только армии писателей, и такая армия, конечно, будет. Мы уже видели ее первые отряды. Немало хороших книг написано о Великой Отечественной войне советского народа. Я сказал – немало. И все-таки недостаточно. Может быть, когда-нибудь явится гений – новый Пушкин, Толстой или Шекспир. Наверно, он сумеет в одном великом произведении оживить гигантскую панораму тех дней – горные вершины Сталинграда и Севастополя, могучие реки нашего наступления и неприступные скалы обороны. Может быть, в этом романе (или поэме) предстанет перед нами все: русские солдаты и генералы, и враги, и друзья, и военные сводки, и полевые кухни, госпитали и штабы, взорванные танки на размытых дорогах, и город, притаившийся в ночи под маскировочными шторами. Мы прочтем там о скромных тружениках тыла и о судьбе жены солдата, о великих полководцах, сумевших объять мыслью целую эпоху, и о маленьком сержанте, у которого хватило сердца только на то, чтобы прикрыть им черную дыру ствола вражеского пулемета. В той книге будет все: чувства всех, выраженные через немногих, душа миллионов, радость и горе народов. Если бы я мог перечислить все, что там будет, то, наверно, попытался бы сам написать эту книгу. Но я не знаю, как передать в одном романе эпоху. И это вовсе не значит, что все мы – простые солдаты писательской армии – должны дожидаться создания будущего гения, а пока сидеть сложа руки. Пусть каждый расскажет о том, что он знает сам. Пусть каждый, кто может, попытается передать чувства, волновавшие его, свою боль и свою радость, и да будет благословен этот труд, потому что каждое зерно попадет в житницу народа. Ему одному принадлежит будущее, настоящее и прошлое. Он один сумеет отобрать полноценные золотые зерна от шелухи.
Сегодня, в ночь полнолуния, я открыл нижний ящик своего стола. Я давно ждал этой минуты и счастлив, что она пришла. Ворох писем и дневников покрывает бумаги сегодняшнего дня. На столе лежат выцветшие фотографии и другие – совсем еще сочные и четкие, будто они сделаны вчера. Старую карту нужно разворачивать очень осторожно. Она совсем истерлась на сгибах. Ведь вы знаете, как полагается складывать военную карту? Ее складывают сначала вдоль, а потом гармошкой, чтобы можно было перелистывать ее, как книгу. Офицеры читали эту книгу при свете электрического фонарика или коптилки, сделанной из снарядной гильзы, а иногда даже при свете луны, когда она бывала такой щедрой, как сегодня. Синие и красные дуги на карте, маленькие овалы, ромбы, кружки. Стрела – удар. Извилистая линия – рейд в тыл врага. Об этой карте можно писать день и два, и больше, и все равно не напишешь всего, что она рассказывает знающему ее историю.