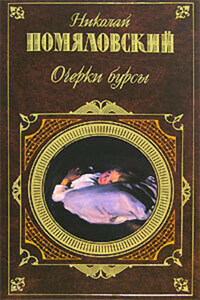Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною быстротой создавались миллионные состояния, – на одной из барж богача купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев.
Сильный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача – не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют – даже не могут – задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, – но совесть непобедима лишь для слабых духом; сильные же, быстро овладевая ею, порабощают ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее…
В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как богача и умного человека, но дали ему прозвище – Шалый, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в стороны от наживы, главной цели существования. Было как бы трое Гордеевых – в теле Игната жили три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и, когда Игнат подчинялся ее велениям, – он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото: скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; обманывал, иногда не замечал этого, порою – замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и, в безумии жажды денег, возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу.
Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую тридцатипятисаженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:
– Так ее!.. Ну-ка еще… жми-дави!.. Ну, еще разок!..
– Что, Игнат, – спросил его кум Маякин, – выжимает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?
– Ничего! Еще сто наживем!.. Ты гляди, как работает Волга-то! Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом, – гляди! Вот те «Боярыня» моя! Всего одну воду поплавала… Ну, справим, что ли, поминки ей?
Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире, на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».
– Жалко посуду-то, Игнат? – спросил Маякин.
– Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла… Чай, не руки мне оторвало…
– Все-таки…
– Что – все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось, – вперед – наука! А вот, когда у меня «Волгарь» горел, – жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной ночью, этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина был…
– Будто тоже не пожалел?
– Пароход? Пароход – жалко было, точно… Ну, да ведь это глупость одна – жалость! Какой толк? Плачь, пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их – пароходы горят. И – хоть всё сгори – плевать! Горела бы душа к работе… так ли?
– Н-да, – сказал Маякин, усмехаясь. – Это ты крепкие слова говоришь… И кто так говорит – его хоть догола раздень, он все богат будет…
Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки; он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил человек мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил: