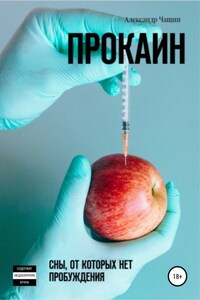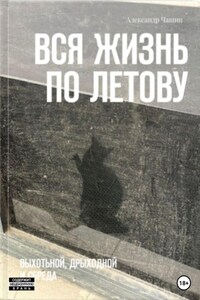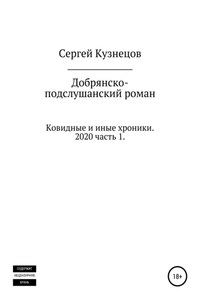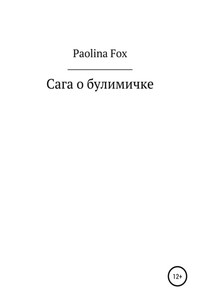Атаковать паническую атаку. Да, пожалуй, это и есть основной навык, освоенный мной за долгие предпоследние годы. Знаешь, если честно, то меня преследует навязчивый страх, внезапно меня не станет, и я не успею дописать-опубликовать всё мной когда-либо задуманное. А ведь где-то у родителей на антресолях до сих пор так и хранятся не расшифрованные магнитофонные кассеты с моими ранними песнями, которые так любят в виде флэшбэков кусками навещать мою память. Хотя кто сейчас знает, что это такое – магнитофонные кассеты?
Я всё так же живу по Шопенгауэру и чищу себя под Ницше. Счастливо от того, что, как собака, предпочитаю ничего не знать о своей смерти, для чего намеренно не хожу по врачам. Не потому, что хочу заболеть и умереть, просто не хочу знать, исключаю даже малейшую возможность зримо ограничить свои дни. Хотя да, как сказал один поэт: сердце тук-тук, и время тик-так. Ощущаю это по себе уже на чисто физиологическом уровне, во снах меня с настойчивой периодичностью посещают покойники и покойницы, с которыми я постоянно куда-то еду и даже не только, но под конец наши пути как-то расходятся. Пока что. А посему другого выхода, кроме как потихоньку поспешать, у меня нет. Останов – это смерть. А слов о смерти не знает никто. Впрочем, как и паролей-явок от моих аккаунтов, где кипит мой перфекционизм, и от его пара я понимаю, что где-то уже и исписался. Пора меняться? Но, судя по популярности моих книг, теорию последнего идиота, которому не находится покупателя даже под закрытие книжной ярмарки, собой я оправдал давно и сполна.
Народная мудрость гласит, что человек обычно меняет себя по двум причинам: кто-то входит в его жизнь и кто-то выходит из неё. В общем, во всём виноваты дверь и сопутствующий её повороту на скрипящих от долгого неиспользования петлях сквозняк. Именно он, а не этот мифический кто-то, шаробобящийся туда-сюда, несёт собою ветер перемен. Сквозняк – он же ведь что? Простуда! Особенно, когда человек постоянно сидит за закрытыми дверьми в своей жизни-оранжерее. Ну, и дверь конечно же. Дверь должна закрываться. Отгораживать от внешнего мира есть её главное функциональное предназначение.
«Двери закрываются. Следующая остановка – улица Верности». Из дребезжащего пятьдесят первого трамвая, шедшего в ночи от Финляндского вокзала до Пискарёвки в самом начале далёкого, одна тысяча девятьсот девяносто третьего внезапно зазвучало:
Мы потерялись во снах,
Мы утонули во мгле.
Мы растворились в домах,
Всё дело только в вине.
Мы пьём всю ночь напролёт,
Мы пьём отчасти весь день.
Здесь невозможен уход,
Мы здесь похожи на тень.
О, Питер, город тоски,
Нам находиться здесь в лом.
Нам от тебя не уйти
И не вернуться облом…
Мы заблудились во снах,
Мы потонули во мгле,
Мы затерялись в домах,
Мы топим боль лишь в вине.
О, Питер – город тоски,
О, город вечной тоски.
Странно, я думал, что уже навсегда забыл эту написанную той холодной зимой песню. Да вообще память – довольно странная штука! Панковская. Моргенмуффельная. Впрочем, кто из нас без греха? Кто без окон, без дверей, полна жопа огурцов?
Из нас двоих, ехавших в том «противнике», в живых остался только я один. Тогда мы проехали свою остановку и пешком дошли до Богословского. Зашли на могилу к Цою. Горшка тогда туда ещё не положили, хотя тогда мы ещё и не знали, кто такой Горшок. Да и сейчас я смутно это представляю. Летов ещё только начинал своё движение в национал-большевизм, а мы уже направлялись в сторону Москвы. Уже не помню на чьей кухне, приютившей нас по пути на вокзал, я впервые пел эту написанную в трамвае по дороге в Пискарёвку песню. Все вокруг снисходительно улыбались, а ты подпевал. Даже несмотря на своё вечно хромающее чувство ритма. Больше я её почти и не исполнял… Потом плацкарт в одном вагоне с каким-то оркестром, выменянные на остатки взятой в дорогу палёной, как оказалось, водки сигареты…