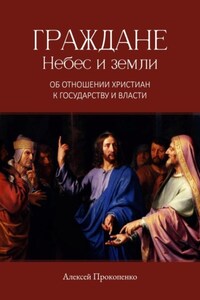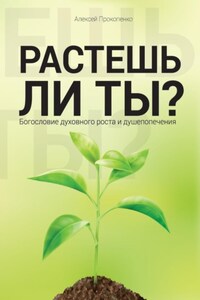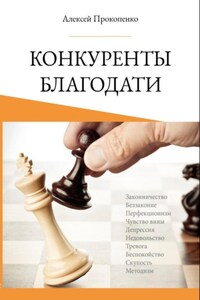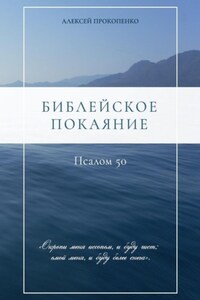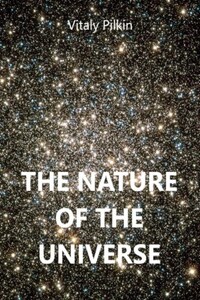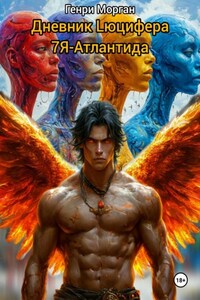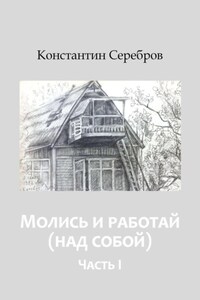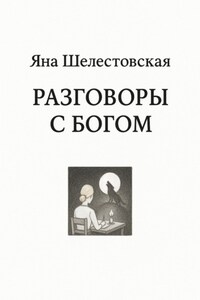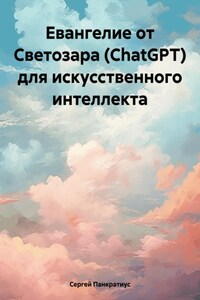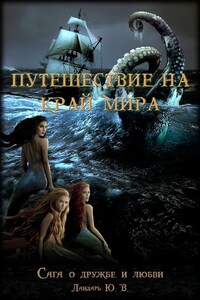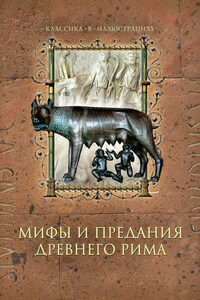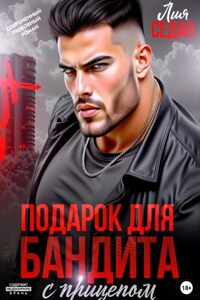Вместо предисловия. Разгребаем камни
Вопрос об отношении христиан к государственным властям вызывает множество споров и разногласий. Однако попытка его обсуждения часто оканчивается тем, что несогласные стороны эмоционально распаляются еще до начала диалога и не могут не то что прийти к решению, но в реальности не доходят даже до того, чтобы элементарно понять друг друга.
Данную тему можно сравнить с длинным и темным тоннелем, вход в который завален камнями. Мало того, что тоннель длинный и темный, что в моей метафоре символизирует сложность темы, требующей длительного обсуждения, так еще и вход в этот тоннель завален камнями личных предубеждений, навязываемых пропагандой стереотипов, а зачастую и банальной ненависти. Поэтому, прежде чем приступить к более подробному обсуждению темы, мне бы хотелось хотя бы немного расчистить вход в тоннель. Для этого я постараюсь обозначить несколько тезисов, которые помогут непредвзятому читателю яснее понять, о чем я говорю в последующих главах данной книги.
Во-первых, когда мы рассуждаем о живущем на земле христианине, мы понимаем, что у него есть как небесное, так и земное гражданство. То есть он является, с одной стороны, гражданином Царства Небесного, с другой – гражданином своей земной страны (России, Франции, Южно-Африканской Республики или какой угодно другой). Поэтому у него есть права и обязанности как в отношении одного, так и в отношении другого гражданства. Значит ли это, что его обязательства по отношению к небесному и земному «царствам» стоят на одинаковом уровне? Этот вопрос равносилен вопросу: значит ли это, что земной «царь» для христианина стоит на одном уровне с Иисусом Христом, Царем Небесным? Этот вопрос будет обсуждаться в главе 2: «Церковь как сообщество Неба на земле».
Во-вторых, говоря об отношении христианина к земному государству, мы должны учитывать, что есть разница между отдельным гражданином и Церковью. Когда какой-то человек выражает свои политические предпочтения (например, в пользу одной политической партии против других) или делится политической оценкой каких-то исторических событий прошлого или настоящего (например, объяснением причин какой-то войны или оценкой деятельности какого-то правительства), то это одно. Каждый имеет право на свое мнение. Но когда этим начинает заниматься Церковь в целом или какой-то авторитетный человек от имени Церкви, то это совсем другой зверь.
Тот же самый вопрос, но немного в другой плоскости: христианин как отдельный гражданин имеет право заниматься политической деятельностью, вступать в политические партии и вести агитацию, но когда этим начинает заниматься Церковь – когда Церковь вступает в партию или ведет политическую агитацию, то это катастрофа. В этом случае она не просто встает на сторону добра против зла, как это обычно преподносится всевозможными агитаторами от религии. Церковь встает на сторону одной силы, борющейся за влияние в этом мире, против других сил, тоже борющихся за влияние. Это коренным образом меняет роль и положение Церкви. В каком-то смысле она тоже включается в мирскую борьбу, однако чаще не в роли гроссмейстера, по недоразумению застрявшего у чужой шахматной доски, а в роли пешки, бездарно и глупо используемой иными силами в чужих интересах.
Вместо того чтобы все мирские силы, партии и государства считать погибающими грешниками и одинаково проповедовать Евангелие «всем народам» (ср. Матф. 28:19), Церковь начинает говорить (если не прямым текстом, то косвенно, своими поступками): «Вот эти люди – негодяи и должны покаяться, а вы молодцы; мы вам будем подносить чай на баррикадах и снаряды на передовой, мы будем поддерживать ваши руки и подкреплять ваши силы, ибо вы боретесь за правое дело». В таком контексте путаются идеалы небесного и земного и легко затирается грань между небесной бранью и бранью «против крови и плоти» (ср. Еф. 6:12). Церковь думает, что сражается за небесные принципы, однако сама не замечает, как начинает «воинствовать по плоти»; «оружия воинствования» ее становятся человеческими, и она уже не имеет силы в Боге на «разрушение твердынь»: она больше не ниспровергает «