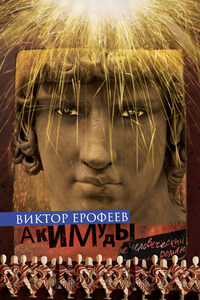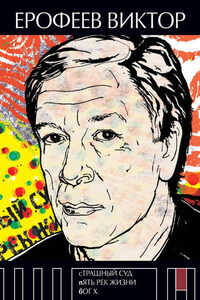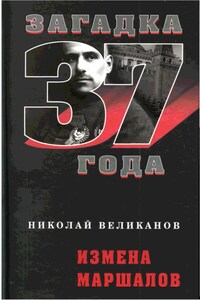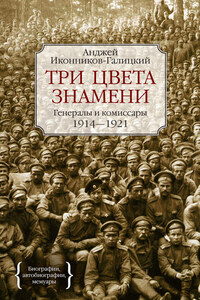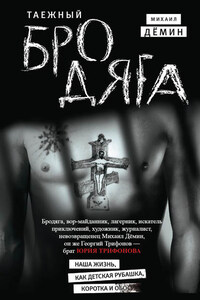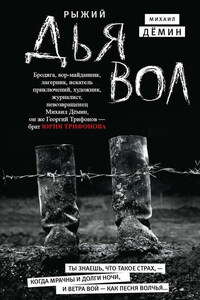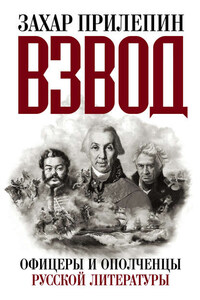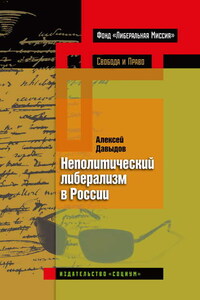Правда власти не принадлежит сочувствию. Она – за убийцами… Русская власть – грубая, блевотная, состоящая из мужских анекдотов, мата, бифштекса из сырого мяса, забывчивости, мутной головы, долгосрочного пьянства, садизма, луковой отрыжки, безнаказанности, унижения всех подряд, – вызывает во мне брезгливость, отвращение. Привлеки они меня к себе с их циничной фамильярностью, я бы на следующий день побежал всем рассказывать, какое они говно. Но если бы власть задалась целью купить меня, я бы попал в сложное положение. Мне нравится думать о том, как красноармейцы насиловали и убивали молодых дворянок. Лежу – представляю. Я – виртуальный мучитель, в реальности ненавидящий насилие, не переносящий даже товарищеского «тыканья» всякой сволочи… Писательская слава – тень власти. Но иногда так хочется выйти из тени.
В конце концов я убил своего отца. Одинокая золотая стрелка на синем циферблате башни Московского университета на Ленинских горах показывала минус сорок по Цельсию. Машины не заводились. Птицы боялись летать. Город застыл, как студень с людской начинкой. Утром, посмотрев на себя в ванной в овальное зеркало, я обнаружил, что волосы у меня на висках поседели за одну ночь. Мне шел тридцать второй год. Это был самый холодный январь в моей жизни.
Правда, отец до сих пор жив и даже по выходным до недавнего времени играл в теннис. Теперь, хотя и сильно постарев, он все еще сам косит траву электрокосилкой на дачной лужайке между кустов гортензий и роз, среди кущ с детства любимого им крыжовника. Он по-прежнему водит машину, упрямо не надевая очки, чем приводит маму в отчаяние, а пешеходов – в ужас. Уединившись на втором этаже в своем дачном кабинете, в окна которого скребутся ветви высокого дуба, он долго, медлительно, потирая волевой подбородок, что-то печатает на пишущей машинке (может быть, пишет книгу воспоминаний?), но все это, уже подробности. Я совершил не физическое, а политическое убийство – по законам моей страны это была настоящая смерть.
Можно ли считать родителей за людей? Я всегда в этом сомневался. Родители – непроявленные негативы. Из всех, кого мы встречаем в жизни, хуже всего мы знаем своих родителей, и именно потому, что мы их не встречаем, инициатива изначально захвачена «предками»: это они встречают нас. Пуповина не перерезана – мы состоим из них ровно настолько, насколько их невозможно понять. Коллапс знания обеспечен. Остальное – домыслы. Мы боимся увидеть их тело и заглянуть им в душу. Они так и не превращаются для нас в людей, оставаясь навсегда чередой впечатлений, не знающих своего начала, неустойчивыми чучелами-миражами.
Это – неприкосновенные существа. Наши суждения о них беспомощны, высосаны из пальца, построены на предвзятости, неизжитых детских страхах, борьбе совершенства с реаль ностью, оправдании неоправдаемого. Но и родители беспомощны перед нашей оценкой. Наша взаимная с ними любовь принадлежит не им и не нам, а инстинкту, заблудившемуся как в лоне матери, так и в лоне цивилизации. В этом инстинкте мы энергично ищем светлое человеческое начало, и мы не можем не мстить инстинкту за его слепоту своими глубокомысленными спекуляциями. Любовь под названием «отцы и дети» не имеет общего знаменателя благодарности, полна бесконечных обид и недоразумений, из которых родится горечь запоздалого сожаления.
Родители – буфер между нами и смертью. Как и великие художники, они не имеют права на возраст; наш неизбежный бунт против них столь же биологически безупречен, сколь и морально мерзок. Родители – самое интимное, что у нас есть. Но когда семейная интимность расширяется до масштабов международного скандала, который ставит семью на порог выживания, как это случилось в моем доме, невольно начинаешь думать, вспоминать и анализировать. Я только сейчас наконец решился написать об этом книгу.