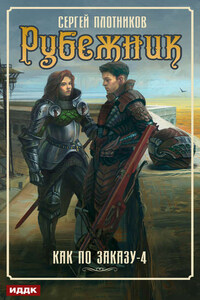Риаленн дрожала с ног до головы мелкой, никогда ранее не знакомой ей дрожью – ветер пронизывал насквозь тоненькую фигурку ведьмы, смазывал крупинки замерзающих слез, которые все катились и катились по ледяной коже лица; весь свой запас ненависти и злобы бросил январь в вороньи крылья черного платья и горел яростным огнем в осознании своей беспомощности: стихия безуспешно пыталась сорвать свой гнев на людском отродье, которое в очередной раз возомнило себя хозяином в этом мире. Ноги отказались служить колдунье, и она с ужасом поняла, что ее тело, которое верой и правдой служило ей двадцать два года, может не просуществовать и двадцать две минуты, и тогда задуманное не сбудется, грядущее не изменится, а ее слабый дух будет вынужден занять свое место среди тысяч подобных ему – и она думала об этом, опускаясь на колени, потому что человеческая плоть слабее взбесившейся Стихии, а Риаленн ничем не отличалась от любой другой девушки, кроме, пожалуй, странного наряда, не особенно подходящего для январского полудня.
Снег тепло коснулся ладоней ведьмы, щекоча кончики пальцев. Снег не хотел отпускать жертву, он выискивал слабые места в сердце, смеялся, обжигая ноги, засыпая черное платье белой крупой, и Риаленн послушно вытянулась на блестящем и таком теплом ложе, отдавая ему последние искры угасавшей в ней жизни.
Зима засмеялась в голос, когда опавшие реки прямых волос цвета спелой ржи укрылись в новом, сверкающем одеянии; дрогнули в последний раз ресницы, и маленький осколок плоти под левой грудью замер… дернулся… снова замер, словно ожидая чуда, спасения, горстки тепла, чтобы жить, чтобы поддержать обмякшее тело… Недовольно захрипел ворон с верхушки занесенного снегом калинника, захлопал лениво крыльями, ожидая скорой развязки – он не верил в чудеса, и это неверие подвело птицу в первый раз в жизни.
Замерзающая водянистость глаз колдуньи вспыхнула голубоватым светом; вздрогнул и закричал от испуга ворон, обивая маховыми перьями алый цвет ягод, но воздух не пускал в себя крылатого вестника оконченного Пути – судорога свела грудные мышцы, и птица рухнула в снег, ощущая липкий, настойчиво ползущий по позвоночнику страх.
Риаленн поднималась медленно, пытаясь опереться на сгустившийся вокруг нее полумрак; двадцать два года стали для нее столетиями; время и пространство перестали иметь значение, и черное платье более не трепали порывы назойливого ветра. Стихия улеглась у босых ног, покоренный январь подставил беззащитное горло, и самым странным – если не страшным – было то, что на это горло нашелся нож.
Нет, это была не Риаленн – или, во всяком случае, не прежняя неопытная ведьма Карфальского леса. Узорчатый воротник опоясал шею, превратив истрепанные обрывки одежды в королевскую мантию, белизну замерзших рук и ног одели браслеты кровавого оттенка – королева? владычица? дух богини? Глаза Риаленн не отвечали на незаданные вопросы, они лишь светились ярко-голубым сиянием, и заиндевевшие пальцы охватили резную рукоять тяжелого костяного клинка.
Это была не Риаленн.
Это была Уходящая В Ночь, Дух Стаи, Хранительница Жизни – кто угодно, только не юная девушка в разорванном вьюгой платье, и не Риаленн видел обезумевший от страха ворон, а вставал перед ним призрак, от одного вида которого перья на затылке дыбом вставали, и предательское горло само по себе выдавливало наружу мольбу о пощаде – этакое сипение, отдаленно напоминавшее закипающий чайник.
– Сейчас?
Вопрос лег на ладони снежинкой – и растаял.
Где-то наверху ревела буря…
– Сейчас?
В горах Вершанга идет весеннее светопреставление: дух грозы пьет мартовское вино с призраками погибших на перевале путников, и десницы молний раздвигают в улыбке пушистые губы огромной затаившейся кошки.