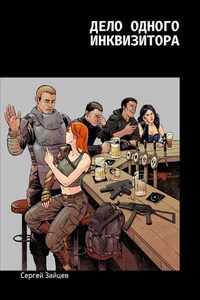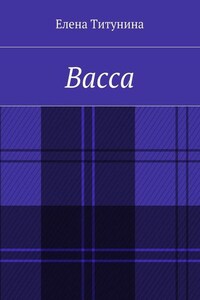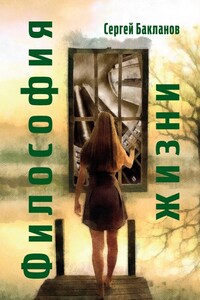– Полная ахинея! – бросил я в сердцах тетрадь на спальник.
– А ты почитай, или дай я сам почитаю, – состроил просительную гримасу Евген.
– Да хрен ли тут читать! Если я говорю, что это ахинея, то так и есть! И потом, мой почерк не разберёт никто. Даже я сам.
– Подожди, подожди. Если ты не разбираешь свой почерк, то как же ты читаешь свои сочинения? – вклинился Женька. Его не корми сгущёнкой, только дай всё разложить на свои полочки, да не просто так – где что придётся, а конкретно: каждую вещичку – на своё не меняемое место!
– А я ничего и не читаю. Напишу и выкидываю к чертям собачьим, чтобы не позориться!
– Ну Серж, ну почитай, – сделал Евген гримасу настолько просительную, что самый искусный нищий по сравнению с ним выглядел бы рэкетиром.
– Ну прочитай, прочитай, – поддержал его Женька, – всё равно ведь не отстанет. Да и мне, признаться, любопытно узнать, как ты выплетаешь из своих мозговых извилин канву кружев литературного сюжета.
Я только закашлялся от столь умного предложения – даже для Женьки это было лихо!
– Хорошо, но за последствия этого действа ответственность закидывайте на свои хребты!
– Я! Я! – подскочил Евген. – Я всю ответственность беру на себя!
– Ну-ну, не надорвись только, – ухмыльнулся я и начал читать так, словно описывал на похоронах нелёгкую жизнь человека, ушедшего в мир иной, но задолбавшего за эту жизнь остающихся до суицида.
– …Нет, не может стать мачехой нам эта вечно мёрзлая землица. Да и не мерзлота это, а необходимая суровость, которая закаляет наши характеры и тела и делает из нас нормальных мужчин! – наконец-то закончил я чтение.
Наступила мучительная пауза, в которую я осознал всю банальность своей писанины. Мне стало так противно, что руки сами собой разорвали листы пополам и собрались было возвести эту процедуру в арифметическую прогрессию. Но Евген не дал мне в этом поупражняться и с резким вскриком выхватил листки из моих рук:
– Ты что делаешь, Серж, ведь это так здорово!
Он быстро спрятал листочки за пазуху и прикрыл грудь ладонями:
– Раз они тебе не нужны, то я их забираю себе. Когда-нибудь, когда ты станешь знаменитым писателем, они будут так дороги!
– В смысле денег или как раритет? – уточнил Женька.
– А что такое раритет?
– Раритет – это очень редкая вещь.
– Да, Женька, правильно, – это будет раритет, стоящий офигенных бабок!
– Что? К Фёдорычу?! – кусок печенья развернулся ребром у меня во рту и намертво заклинил глотку.
– К нему, к нему, – ехидно закивал Иваныч, не отводя напряжённого взгляда от экрана компьютера, где девицы, одна краше другой, хвастались своими попками, грудками и другими, не менее привлекательными частями своих телес.
– А что такое? – завертел головой Евген. – Кто такой этот Фёдорыч?
– Фёдорыч – это не кто, а что! – вздохнул Женька.
– И что же это? – продолжал допытываться Евген, в котором любопытство разгоралось, как антрацит в котле с поддувом.
Но Иваныч не дал нам ответить:
– Короче. Завтра поедете и привезёте Фёдорыча с бригадой и помоете в своей бане. Всё!
– Ага, – мрачно усмехнулся Женька, – и спинку ему потрём!
– Потрёте, потрёте, а куда вы денетесь!
Напоследок Иваныч, как и обычно, убрал заставку с экрана, где у нас красовалась симпатичная девушка, абсолютно не отягчённая одеждами. Он вытащил из недр компьютера какой-то дерьмовый пейзажик, полюбовался на него минуту, и, помахав нам на прощание ручкой, был таков!