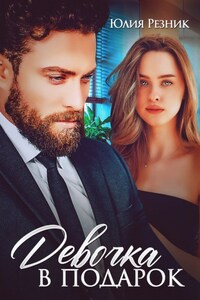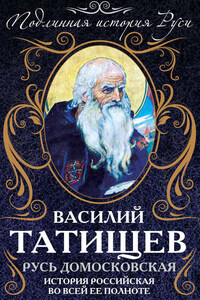Три-два-один…
Включившееся радио наполнило электронным битом по-детски обставленную комнату. Музыка ворвалась так неожиданно, что лежавшая на кровати Рене испуганно вздрогнула и споткнулась на полуслове очередной мнемоники. Однако привычка не подвела, и, схватив валявшийся рядом конспект, она со всей силы несколько раз ударила им по выключателю старенького приёмника. Тот, кажется, был привезён в Канаду чуть ли не первыми колонистами, а потому совершенно не понимал ласки.
Наконец, стоявший около кровати пережиток бакелитовой промышленности одумался, и неуместные в этот ранний час басы стихли, однако покой к Рене так и не вернулся. Она села на кровати и задумчиво потёрла протянувшийся через всё лицо шрам, что неприятно зудел. Взгляд упал на часы, а руки сами потянулись к тонкой красной полосе, которую так и хотелось расчесать короткими ногтями. Рене одёрнула себя. Надо было собираться, время поджимало, и над крышами Квебека уже серело предрассветное осеннее небо.
Комната вновь сотряслась развесёлым ритмом, и Рене дёрнулась. Во имя Кохера, Бильрота и Холстеда! Так недолго и поседеть! Она нервно хихикнула, представив, как где-то в своих постелях вот так же вздрагивали неожиданно проснувшиеся люди, и покачала головой. Похоже, диджей решил довести до инфаркта всех ранних пташек, подсунув в эфир этот хит пресвятой девы поп-сцены. Рене снова вздохнула, в очередной раз безрезультатно хлопнула конспектом по кнопке выключения приёмника и всё же вылезла из кровати.
Потерев одну замёрзшую ступню о другую, она с пританцовыванием в такт песенке пробежала в холодную ванную, а оттуда на резиновый коврик – размять ноги в relevé и passé перед долгим дежурством. После, под не менее музыкальный стук зубов, Рене натянула шерстяное платье в весёлых ромашках, заплела непослушные светлые волосы в две немного наивные косички и встретилась в зеркальном отражении с собственным нервным взглядом.
Ах, ради бога! К четвёртому году резидентуры1 пора бы иметь чуть больше гонора и чуть меньше зубрёжки. Даже если оперировать настолько травмированные нервы предстояло впервые. Даже если до чёртиков страшно. Даже если ради сюжета о Рене Роше сегодня со всей огромной провинции съедутся репортёры, а наставник притащит две группы студентов в назидание подопечной и во имя своего эго. Ведь когда твоя ученица двадцатилетняя пигалица… Ну, хорошо. Двадцатитрёхлетняя. Однако, много ли это меняло, если все её однокурсники были лет на пять старше? Нет. Её возраст действительно стал событием в медицинских кругах, а что говорить о фамилии!
Роше.
Глупо отрицать, но имя семьи давило. Давило даже в те времена, когда прямо посреди дедушкиного кабинета в Женеве пятилетняя Рене строила кукольные домики из медицинских журналов. Максимильен Роше тогда ещё только претендовал на пост главы комитета «Красного Креста», а потому мог позволить себе несколько вольностей. К тому же, он слишком любил свою «petite cerise»2, что было совершенно взаимно.
Поскольку родители вечно пропадали в командировках, именно дедушка посещал её выступления в балетной школе, водил в зоопарк и позволял использовать вместо игрушек наглядные макеты печени и почему-то трёх почек. А ещё гордо представлял коллегам и партнёрам, брал с собой на благотворительные вечера, где умудрённые опытом мировые врачи постоянно трепали Рене по белокурым кудряшкам, и не переставал утверждать, что однажды из его внучки выйдет самый лучший хирург.
Сама она в ту пору не испытывала ни малейшей тяги к какой-либо медицине и, несмотря на невероятные успехи в учёбе, мечтала стать балериной, чем несказанно удивляла знакомых семьи. Кто-то даже неловко шутил, что ей не передался ни один из врачебных генов родителей. Но потом в жизни случился тёмный подвал, протянувшийся от брови до ключицы огромный шрам и экстерном оконченная с отличием школа. Ну а дальше всё просто: Канада и, внезапно для всех, факультет хирургии, куда Рене поступила в четырнадцать лет с опозданием на несколько месяцев.