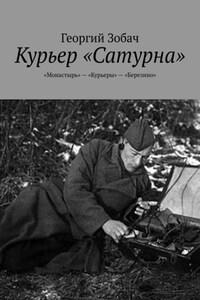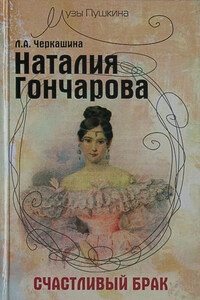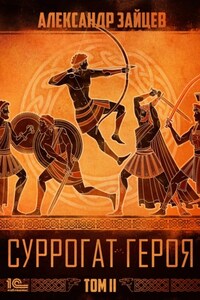У нас с мамой дома был одиночный том из собрания сочинений Леонида Пантелеева. Не рассказы и не ШКИДа, а повесть «Наша Маша». Я в первый раз прочла ее очень рано, когда сама была близка по возрасту к героине, дочке писателя Маше Пантелеевой. Потом часто перечитывала, мама тоже, и какие-то словечки оттуда даже вошли в нашу семейную речь: мамсичек, босикомые… Что-то было непонятно (зачем им домработница? почему Маша не ходит в детсад?), что-то раздражало, но вдумчивый интерес родителей к дочке, к ее слову, настроению, душевному порыву вызывал уважение. Этим интересом книга была наполнена, он передавался. И нравилось: девочка уже выросла (об ее непростой судьбе я узнала сильно позже), но и она-маленькая – вот, в тетрадях, блокнотах, потом на страницах книжки. Хорошая привычка – записывать за ребенком, думала я.
Ко мне не пристают хорошие привычки, не пристала бы и эта, если бы не Живой Журнал, который стал моим блокнотом для записей о сыне. Появились читатели – помощь моему честолюбию, а значит, и старанию.
Сын неплохо заговорил в два с половиной года, я прилежно записывала. Хорошо помню одну из первых записей, про то, как он пересказывал мне «Репку».
– И позьвала коська мисику.
Долгая пауза.
– Так мышка пришла – и что?
Трагично и серьезно:
– Мисика не пьишла…
– Почему?!
– Она била дугом месьте…
Я потрясена:
– В каком другом?
– Ду-гом. Она тям бизяла… хостиком махнула… яицко упаё и язбиось…
Так вот, я записывала, и какие-то его словечки тоже вошли в нашу и наших знакомых речь: высшей оценкой чего-либо стало слово «кьясота» (произносить с придыханием, протяжно), худшей – «безобьязие» (сдвинуть брови), толстых голубей вся наша семья называла вслед за ним «куняка́ми». Я с грустью ждала финала, предсказанного Чуковским – от двух до пяти! до пяти! – но сыну исполнилось и пять, и шесть, а записей появлялось все больше.
Сейчас, когда я наконец собрала все, что писала о сыне, о себе и о нас почти двенадцать лет подряд, ему исполнилось 14. К рассказам о своем детстве он относится с некоторым раздражением, называя то время «возрастом неразумства». Наверное, я немного опоздала с этой книгой, но все же – с согласия сына, разумеется, – рискую ее напечатать. Я с самого начала старалась быть в своих записях немного отстраненной. Это не фотография, не хроника, не документ; скорее – набросок. Силуэт, деталь – готово. Похоже? Он? Мы? Похоже, он, мы. Но не весь он и не вся наша жизнь.
4 года
Долго-долго корпел над мозаикой. Сложил. Прислонил получившееся к шкафу, отошел, посмотрел. Подумал. Объявил:
– Семейный пайтъет!
Спрашиваю – а где тут я? папа?
– Вас тут нет.
– А кто же есть?
– Паовоз. С фонаём. И солнце. Оно пъотянуло лучик паовозу, а паовоз светит фонаём на солнце. Къясота.
Федором звали моего деда. Я была его младшей и любимой внучкой. Любовь он выражал так: терпел. Суровый был человек, жизнь его сильно обижала. Когда я родилась, ему было 69 – по-нынешнему «всего», но у него позади была война, ранение, контузия, тюрьма, водка, гибель старшего сына. Он здорово устал к своим 69-ти. Вряд ли ему хотелось все летние дни (я была приезжей, летней внучкой) смотреть за ребенком, пусть и послушным. Но он терпел. Брал меня на огород, за грибами. Ждал, пока я плескалась в речке. Переживал из-за моих синяков и порезов. Он умер, когда мне было 14. Почему-то я сразу решила назвать сына, если он у меня появится, Федором. Благодарность? Чувство вины? Вряд ли; просто захотелось.
3 года
Когда шкет бесится, его зовут не Федя, а Кунделе́вский. А меня, когда он бесится, зовут Тяпочкин. Так повелось. Поэтому, когда он несется на меня и хищно кричит: «Тяпочкин!» – это значит, что мы будем беситься. И я в ответ кричу: «Кунделе́вский!!! где твое пузо?! – я съем его с кетчупом!!!»