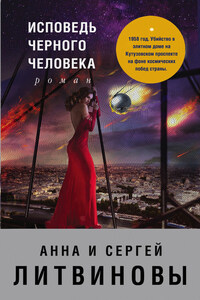Будильник безжалостно разорвал утреннюю тишину в 5:00. Ин-ха неохотно потянулся, нащупывая его в полумраке. Кофе – крепкий, обжигающий, словно удар током, чтобы перебить вкус вчерашнего разговора. Затем – бег. Улицы города ещё сонные, и он искал в их пустоте не просто сосредоточенность, а бегство от другого ритма жизни, того, что диктовался из небоскрёба в деловом квартале.
В семь – беглый завтрак: протеин, витамины. Ничего лишнего, особенно того, что напоминало бы о банкетах и светских раутах. В восемь – обход. Палаты, заполненные ожиданием. Он внимательно слушал, кивал, задавал короткие, точные вопросы. В глазах пациентов – надежда, и она была единственной валютой, которая его по-настоящему интересовала.
Затем – операционная. Его святилище. Безжалостный свет высвечивал каждый стерильный уголок, отбрасывая резкие тени. Тишину пронзал лишь мерный пульс приборов, отсчитывающих драгоценные мгновения. В эти моменты для Ин-ха время обращалось в ничто.
Он очень любил такие моменты. Момент полной тишины в операционной, когда оставался только он, тело пациента и та хрупкая грань, что отделяет жизнь от небытия. В эти часы Ин-ха не просто хирург. Он – часовщик, перед которым рассыпался сложнейший механизм, давая один шанс его собрать. Каждый сосуд, который мужчина сшивал, каждый нерв, который он бережно соединял – это не просто физиология. Это музыка. Симфония, которую он писал вместе с телом, лишь дирижируя.
– Скальпель, – ровным тоном, сосредоточенно произнёс Ин-ха, не поднимая головы на ассистентку.
Холодный блеск стали в его руках отзывался лёгким трепетом. Скальпель не был для Ин-ха инструментом разрушения, в его руках он становился кистью. И на холсте живого тела он не рисовал абстракции, а возвращал форму тому, что было искалечено. Он восстанавливал функции, да, но куда важнее, что он возвращал надежду. Видеть, как в глазах человека, долгие месяцы жившего в отчаянии, просыпается огонёк – это наркотин, сильнее которого ничего нет.
Выходя на перекус между операциями, жужжащий телефон напомнил о себе. Не пациент, не коллега. На экране горело «Мама».
– Да?
– Ин-ха, ты посмотрел материалы по сингапурской сделке? Отец надеется…
Тяжёлый вздох сорвался с губ мужчины, словно свинцовая гиря упала на чашу весов его терпения. Очередной вопрос о бизнесе, этой чудовищной гидре, к которой он не имел ни малейшего касательства, резанул слух. С самого детства в его душе зрело отвращение к перспективе работать на кого-то на чужой нише, а затем быть вовлечённым в грязную схватку за власть, в которой он всем сердцем не желал участвовать.
– Мама, у меня через пять минут начинается консилиум. Сердечная недостаточность, девочке восемь лет. Дела компании могут подождать!
Эта тема его беспокоит больше. Его руки помнят десятки тысяч пульсов. Они чувствуют малейшую дрожь, самое крошечное колебание тканей. Это знание не из учебников. Оно – в кончиках пальцев. Оно – в этой почти мистической связи, которая возникает между хирургом и пациентом на столе. Ты дышишь за него, бьёшься за него, живёшь за него эти несколько часов.
И когда мерный писк аппаратуры сменяется уверенным, ровным ритмом его собственного сердца… Когда видишь, как розовеет кожа, как лёгкие самостоятельно наполняются воздухом… В этот миг весь мир сжимается до размеров одной операционной, и ты понимаешь: вот он. Абсолют. Он только что подарил Вселенной ещё одну жизнь. Отвоевал её у хаоса.
В трубке повисло взволнованное молчание, а затем тихий, полный сожаления вздох:
– Я просто передаю. W-group – это твоя семья, помни об этом.
– Я помню,– его голос смягчился, но оставался непоколебимым. – Но моя работа – здесь. Я не могу обсуждать слияния, когда чья-то жизнь висит на волоске. Ты же знаешь…