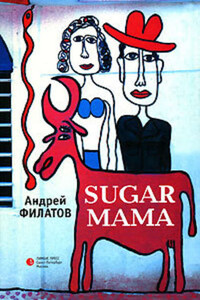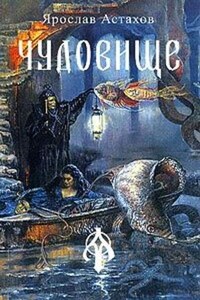Александр Мелихов
ИСПОВЕДЬ ЕВРЕЯ
Скажите, можно ли жить с фамилией «Каценеленбоген»? Не в тысячу ли раз сладостнее фамилия «Фердыщенко»? К тому же всякого Фердыщенку понимают с полуслова, не заставляют на потеху окружающей публике скандировать «Ка-це-не…», дрессированным удавом изогнувшись к канцелярскому окошечку. Скандировать свой позор, свое клеймо (хотели бы вы во всеуслышание возглашать о себе: «Ро-го-но-сец, ро-го-но…»?), слог за слогом выдавливать из себя признание: я – еврей, я… – нет, даже рука, этот вульгарный механический отросток, лишь на два шага отодвинувшийся от протеза, отказывается мне повиноваться, а прочесть это проклятое слово я просто-таки НЕ МОГУ – глаза перебегают на соседние, все-таки более приемлемые строки: плюнуть самому себе в лицо мне даже физически было бы проще.
В блаженном младенчестве я считал, что еврей – просто неприличное слово, не имеющее, как все такие слова, никакого определенного смысла, а придуманное только для того, чтобы при его помощи невоспитанные люди могли обнаруживать свою невоспитанность. А потом явился ангел с огненным мечом и сообщил, что оно имеет вполне определенный смысл, а в довершение всего я сам оказался… нет, не могу повторить это срамное слово всуе, как правоверный иудей (этот эвфемизм у меня получается) не может произнести имя Бога – он говорит только: Тот, Который… Который что?
Сначала я цеплялся за такую соломинку, как половина русской крови в моих еврейских жилах, но теперь-то я понимаю, что еврей (ага, расписалась рука, легко проскочило: первую песенку зардевшись спеть – я злоупотребляю русскими пословицами, как японский шпион штабс-капитан Рыбников), так вот, еврей – это не национальность, а социальная роль. Роль Чужака. Не такого, как все. Для наивного взгляда разные еврейские свойства вообще исключают друг друга – я и сам в дальнейшем намереваюсь сыпать противоположными казалось бы, этикетками: «еврейская забитость» и «еврейская наглость», «еврейская восторженность» и «еврейский скепсис», «еврейская законопослушность» и «еврейское смутьянство»: имеется в виду забитость чужака и наглость чужака, восторженность чужака и скепсис чужака, и пусть вас не смущает, что все его свойства имеются и у добрых христиан – чужака отличает единственный уникальный признак: его не признают своим. Поэтому и храбрость, и трусость, и щедрость, и скаредность у него не простые, а еврейские.
В юности я извернулся было с широковещательной еврейской декларацией «национальность – это культура» (евреи стремятся определить национальное такими атрибутами, которыми способен овладеть каждый: они проповедуют общечеловеческие ценности, чтобы ядовитым их сиропом растворить стены своего гетто) и много лет с таким пылом отдавался русской литературе, русской музыке, доводя свой чистосердечный восторг до болезненных пароксизмов, пока вдруг… а ведь я не только очень хорошо знал, что положено рыдать при слове… ну, скажем, «Шаляпин», но и рыдал (да искренне, искренне же!) громче всех, пока однажды во время коллективного рыдания меня не спросили с дружелюбным недоумением: «А ты-то чего хлюпаешь?» – но после этого я умерил лишь внешние проявления, а внутренне я стал рыдать еще громче. И все же со временем я обнаружил, что путь русской культуры и был путем самого оголтелого еврейства (впрочем, любой другой путь, который избирает для себя еврей, немедленно становится еврейским путем: обдуманно и мучительно выбирая то, что должно делаться бессознательно, ты уже одним этим навеки исторгаешь себя из рядов нормальных, – то есть русских – людей (кроме евреев, у нас все русские). Да, да, путь вдохновенного овладения (а кто же станет вдохновенно овладевать собственной женой?) русской культурой оказался путем наинепоправимейшего еврейства: нормальному человеку незачем исследовать закоулки наследственных владений – на то есть евреи-управляющие, нормальному человеку ни в чем не требуется переходить через край, а уж если ты сделался каким-то особенным знатоком Толстого или Пушкина – значит ты Эйхенбаум, Лотман или, в лучшем случае, – полуэтотсамый Тынянов.