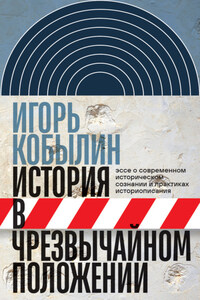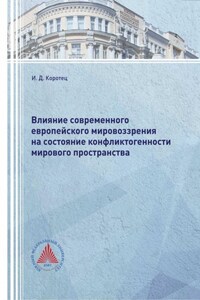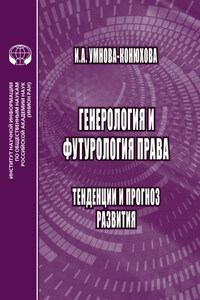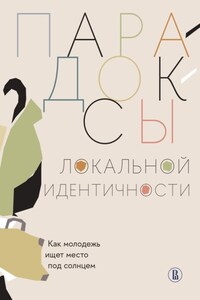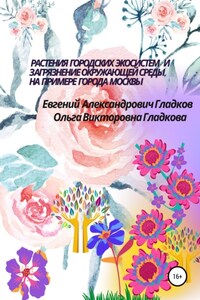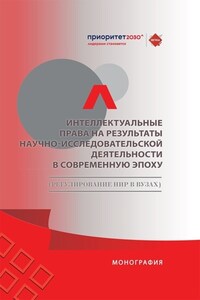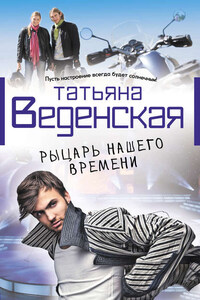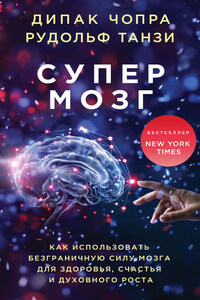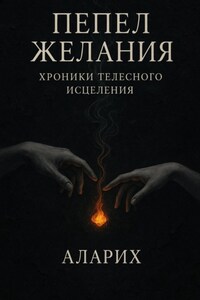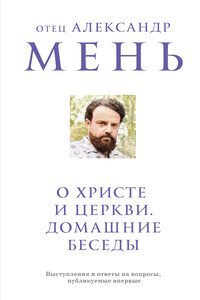Момент кризиса: jurisdictio, gubernaculum и история
В самом начале своего фундаментального «Момента Макиавелли» (1975), посвященного приключениям ренессансной и нововременной республиканской теории, Джон Гревилл Агард Покок весьма подробно останавливается на трактате английского судьи и «философа-любителя» сэра Джона Фортескью «О похвале законам Англии», написанном в 1468–1471 годах. Как поясняет Покок, этот трактат позволяет нам лучше разобраться в ключевых идеях той эпохи, поскольку «он высказал их в несколько грубой форме»[2]. Покока прежде всего интересует характерная для политической мысли XV–XVI веков концептуализация напряжения между аристотелевско-христианским универсальным мировым порядком с его неизменными принципами, распространяющимися среди прочего и на политическое сообщество, и историей, понимаемой как сфера единичного, конкретного и случайного. Действительно, это напряжение проявляется у Фортескью в более чем наглядном виде.
Трактат построен как диалог между находящимися в изгнании принцем Уэльским и лорд-канцлером Англии. Лорд-канцлер пытается заинтересовать принца изучением английских законов. Если отвлечься от интересных, но слишком многочисленных для краткого пересказа подробностей, аргументы лорд-канцлера выглядят приблизительно следующим образом. Принцу не стоит беспокоиться по поводу сложности и запутанности английского законодательства: поскольку краеугольным камнем каждой науки является совокупность основных принципов (максим в математике, парадоксов в риторике, regula juris в гражданском праве), то, для того чтобы стать юридически грамотным правителем, достаточно ознакомиться с базовыми «максимами», на которых построены законы Англии, тем более что конкретными случаями применения законов будут заниматься юристы-профессионалы. Однако это не решает одной важной проблемы. Коренные принципы юриспруденции отсылают к универсальным положениям естественного права, очевидным для любого разумного человека. Основы справедливости одинаковы для всех: не может быть английской справедливости, французской или римской. И существенная часть английских законов тождественна естественному праву и, соответственно, универсально значимой части законодательства других стран. Однако универсальное существует не в абстрактной пустоте, а в конкретных обстоятельствах, различающихся между собой от страны к стране. Реализация универсального принципа в исторически и географически определенной действительности порождает уникальную для каждого народа правовую конфигурацию, где всеобщие естественные законы сочетаются со специфическими обычаями и статутами.
Обычаи отсылают не к разуму, а к опыту. Опыт в данном контексте – это некий «некритический», «неаналитический» инструмент, позволяющий рассуждать – пусть и «предположительным», как позже выразится Эдмунд Бёрк, образом – не об общем, а об особенном. Древность обычая всегда говорит в его пользу: чем дольше он существует, тем большим количеством людей он испытан и признан пригодным. Когда речь заходит о статутах, Фортескью пишет о «рассудительности», но рассудительность здесь явно ближе к опыту, чем к дедуктивным процедурам ratio. Вернее, рассудительность – это и есть способность использовать коллективный опыт прошлого, чтобы справиться с переменчивыми обстоятельствами, осторожно вводя необходимые новации, которые, в свою очередь, также должны быть в будущем проверены на опыте.
Как можно заметить, у будущего монарха не так-то много возможностей для суверенного политического жеста: за него правят, с одной стороны, универсальная рациональность закона, а с другой – мудрость обычая. Однако в этом идиллическом царстве всегда мог наступить такой момент, «когда неизвестность становилась полной, реакция требовалась мгновенная и управлять мог лишь один человек; монарх обретал абсолютную власть в том смысле, что его решения не были ограничены ни обычаем, ни советом, но они мгновенно не становились – ибо не могли стать – общими законами поведения»