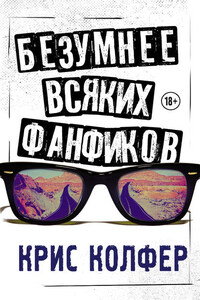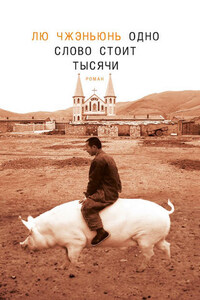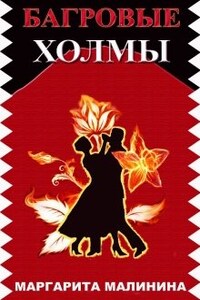Берлин. Центральный вокзал.
Сюда приходят поезда из Польши, и здесь оказались два молодых англичанина, прибывших из Кракова. Вид у них жуткий, у этих подростков, они устали, осунулись и пропылились после десяти дней путешествия по железной дороге. Один из них, Саймон, вперил пустой взгляд в никуда. У него приятная внешность: высокие скулы, импозантное, хоть и невыразительное, нервное лицо. Вокзальный буфет в семь утра полон шума и дыма, и Саймон слышит с неудовольствием разговор двух мужчин за соседним столиком – один, кажется, американец, а другой, постарше, немец. Именно он говорит с улыбкой:
– Вы потеряли только четыреста тысяч солдат. Мы потеряли шесть миллионов.
Ответ американца не разобрать из-за шума.
– Русские потеряли двенадцать миллионов[1] – мы убили шесть миллионов.
Саймон закуривает польскую сигарету, видит в меню слово Spiegelei[2] и кладет на стол в ожидании официанта деньги – евро, приятные на вид, современные деньги. Ему нравится, какой дизайнеры подобрали шрифт, простой, без всяких завитушек.
– Только в Ленинграде умер миллион человек. Миллион!
Люди пьют пиво.
На улице начинает накрапывать дождик, увлажняя серые окрестности вокзала.
С официантом вышло препирательство насчет того, можно ли получить один Kaffeekänchen[3] и две чашки. Ответ был отрицательным. Им придется пить из одной чашки – Саймону и его другу, который стоит сейчас у таксофона (их мобильники здесь не действуют), полускрытый дымчатым пластиком, и пытается связаться с Отто.
Саймон подумал, что официант в своем засаленном алом фартуке вел себя с ними по-хамски. А вот другим угождал – Саймон мрачно следил, как он движется между столиками, сквозь дым и шум, – мужчинам в костюмах и с газетами, а еще тому типу, который быстро поднял взгляд, натянул улыбку и посмотрел на часы, пока официант разгружал поднос.
Голос из динамиков начинает вещать о прибывающих/отправляющихся поездах. Резкий, сухой голос откуда-то извне, оттуда, где суровый ветер атакует пространство вокзала. Этот голос словно заслонка на звуковой трубе – лает, умолкает и снова лает.
Саймон уже знаком с плавным тональным мотивом, предваряющим каждое вторжение голоса.
И этот плавный тональный мотив, звучащий снова и снова, уже, кажется, стал продолжением его усталости, чем-то, находящимся у него, внутри, субъективным.
Официант прямо-таки отвешивает поклон человеку в костюме.
Жизнь вокзала бурлит и клокочет, словно грязевой поток. Люди. Люди движутся через вокзал, как грязевой поток.
И снова этот вопрос:
Что я здесь делаю?
Он видит, как его друг Фердинанд вешает трубку.
Они уже не первый день пытаются связаться с Отто – молодым немцем, с которым Фердинанд познакомился в Лондоне несколько недель назад, сказавшим, возможно, находясь под градусом, возможно, даже не ожидая такого стечения обстоятельств, что они могут запросто зависнуть у него, случись им быть в Берлине.
Фердинанд возвращается к столику с выражением озабоченности на лице.
– Опять без ответа, – говорит он.
Саймон курит и ничего не отвечает. Он тайно надеется, что Отто так никогда и не объявится. Его никогда не грела мысль пожить у Отто. Он не встречался с ним в Лондоне, а все, что он слышал о нем, не внушало симпатии.
Он говорит:
– Ну и что мы будем делать?
– Я не знаю, – отвечает его друг. – Просто поедем к нему на квартиру?