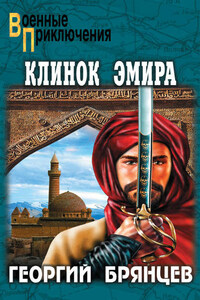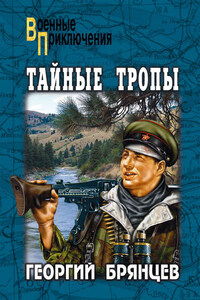Это было в августе двадцатого года.
Эмирская Бухара доживала свои последние часы. У стен цитадели эмирата, «священной» Бухары, стояли вооруженные отряды рабочих и дехкан советского Туркестана. Бой шел вторые сутки.
Из города палили из допотопных пушек, кремневых ружей и английских винтовок. Белобородые муллы, увенчанные белоснежными чалмами, воздев руки к небу, слали проклятия на головы отступников, посмевших поднять меч на наместника аллаха на земле – великого из великих, мудрейшего из мудрейших эмира бухарского.
По паутине глухих улиц, переулков и узких, точно щели, тупиков на поджарых афганских конях метались разъяренные эмирские сарбазы[1].
Грозно размахивая обнаженными саблями, они сгоняли перепуганных насмерть горожан к одиннадцати городским воротам строить новые укрепления.
Толпы опоенных анашой[2] и обезумевших фанатиков бесновались на дворцовой площади Регистан, вокруг башни смерти и перед дворцом эмира – Арком. Одни из них рвали на себе волосы и одежду, другие кричали осипшими от напряжения голосами:
– Смерть вероотступникам!
– Газават! Священная война!
Умар Максумов, бухарский чеканщик, сидел во дворе у своей крохотной глинобитной мазанки, держа на коленях шестилетнюю дочь Анзират. Крики и вопли на улице и треск беспорядочной стрельбы долетали и сюда. Девочка дрожала от страха, прижималась к широкой груди отца, плакала и испуганно лепетала:
– Боюсь… Боюсь, ата…
Не находя нужных слов для утешения, Умар крепкой и сильной рукой гладил черноволосую головку дочери.
Неожиданно к шуму боя примешались какие-то новые, незнакомые Умару посторонние звуки. Они плыли откуда-то сверху, нарастали, сгущались в странный и сплошной рокот. Этот угрожающий рокот уже покрывал многоголосый людской гул и трескотню ружей, от него мелко дребезжали оконные стекла и жалобно вздрагивала посуда в стенных нишах.
– Это еще что такое? – подумал вслух Умар, снял дочку с колен и поставил на глиняный пол.
– А? – спросила Анзират и, широко распахнув заплаканные глаза, тоже стала прислушиваться.
Встревоженный и заинтересованный, Умар закинул полу халата, взял дочку за руку и вышел во двор. Вышел, взглянул в бездонно-лазоревое летнее небо и обмер: по нему, точно легендарные драконы, раскинув двойные неподвижные крылья и делая большие круги, плавали в воздухе костлявые птицы.
Впервые за свою сорокалетнюю жизнь Умар увидел самолеты, о которых слышал лишь краем уха, но еще не представлял, какие они собой.
Анзират, уцепившись ручонками за халат отца, смотрела испуганными глазами в небо. Она уже не плакала, не дрожала. Детское любопытство пересилило страх.
– Раз, два, три, четыре… – считал Умар летавшие чудовища.
Сотворенные из холста, фанеры и деревянных реек, разболтанные и перелатанные, прошедшие через горнило мировой и гражданской войн, изжившие все свои рабочие сроки два «Фармана» и «Сопвича», послушные воле отчаянных смельчаков, каким-то чудом держались в воздухе. Черными гирьками с них падали двадцатифунтовые бомбы и крохотные пехотные гранаты. Они гулко разрывались где-то в центре города, сотрясая все вокруг и вздымая к небу султаны огня, клубы дыма и пыли.
– Велик аллах и милосерден его пророк, – прошептал мастер. – Кажется, наступает конец света. На этот раз эмиру не удастся избежать гнева и карающей руки всевышнего… Велик аллах!