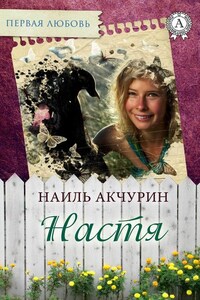Прохладный подвал, по крайней мере, подарил передышку от убийственной жары, обрушившейся на Шварцвальд, хотя пахло там, как в склепе, и я чуть не разбила свое больное колено, спускаясь по осыпающейся лестнице. У нее не было перил, а колено, как всегда, ныло к дождю. Ингрид Фогель преодолела ступени бесстрашно, несмотря на то что ее длинная белая коса и слезящиеся глаза давали понять: она старше меня не меньше чем на четыре десятка лет. Судя по всему, это была одна из тех счастливых восьмидесятилетних дам, для которых артрит оставался чем-то случающимся только с другими людьми.
Когда она включила свет, я прошла следом за ней через арку в древний каменный погреб, поражаясь тому, насколько он старый. Почти похожий на пещеру из тусклого камня, с изогнутыми дверными проемами и простыми опорами, подвал явно остался от гораздо более древнего строения, нежели крытый соломой дом наверху. Чем могло быть это место прежде, рассеянно подумала я, осматривая груды свертков и консервных банок в углу. Прежде чем вступить в свою должность в университете Северной Каролины, я провела пятнадцать лет в Германии – защищая докторскую, работая постдоком [1], читая лекции, – но то, как европейцы беспечно превращают старейшие помещения в склады, по-прежнему казалось мне кощунством.
– Фрау профессор Айзенберг. – Ингрид Фогель обратилась ко мне официально вопреки моим неоднократным просьбы называть меня Гертой. Она уже стояла рядом с неровной формы камнем, вынутым из пола, держа в руке древний сейф. Из нашей электронной переписки я знала, что рукопись должна быть внутри. – Hier ist er.
Тремя днями ранее фрау Фогель написала мне, чтобы рассказать о средневековой рукописной книге, обнаруженной в подвале дома ее покойной матери. Она сказала, что посещала мое выступление в Германии, хотя встречи с ней я не припомнила. В электронном письме фрау описала все, что ей известно о книге – та иллюминирована и написана на средневерхненемецком языке женщиной, – и спросила, не заинтересует ли меня такая находка. Во вложении были результаты радиоуглеродного датирования, подтверждающие возраст книги, и пример одной из страниц. Рукописный текст представлял собой мрачное стихотворение о Белоснежке на малоизвестном алеманнском диалекте; под ним было искусное изображение злой феи, танцующей на розе. Кроваво-красные губы, мертвенно-бледная кожа и копна черных волос.
Когда электронное письмо от фрау Фогель упало в мой почтовый ящик, я сидела у себя в кабинете, готовя программу для осеннего семестра и пытаясь не обращать внимание на двух коллег-мужчин из постоянного штата, которые в коридоре болтали о своих последних публикациях. Сосредоточиться не получалось. У меня в горле стоял комок ужаса, такой огромный, что казалось, будто он перекрывает приток воздуха. В следующем году меня ожидала подача заявки на постоянную работу, и процесс ее одобрения в университете был суров. Мне требовался договор на печать, а мое исследование об отношении к женщинам в средневековых немецких иллюстрированных рукописях никуда не годилось. Его рассматривали в солидном издании, но один из рецензентов окрестил его предмет «domestic minutiae [2]». Критика меня взбесила.
Столетиями писцы-сексисты оставляли огромные пробелы в своих работах и наших знаниях о жизни средневековых женщин, и я пыталась что-то с этим сделать. Рисунок с феей заставил меня ахнуть настолько громко, что один из коллег заглянул ко мне кабинет с вопросительным выражением на лице. Я выдавила из себя улыбку, одними губами ответила «все в порядке» и подождала, пока он вернется к разговору, прежде чем снова сосредоточиться на экране. Изображение было красочным и ярким; лицо феи на нем я бы описала не иначе как злобное. Сердце затрепетало от восхитительного волнения. Может ли быть, что я смотрю на некоего готического прародителя сказки о Белоснежке, каковой мы ее знали? Перспектива изучения чего-то нового – и настолько