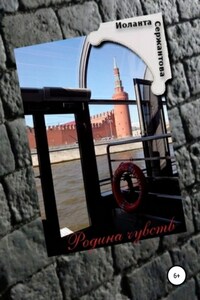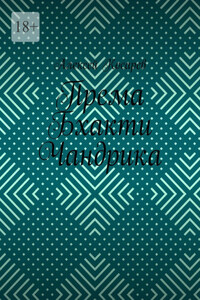Пожаром по Урганским топям разнеслась весть о тяжкой болезни князя. Страх поселился в Белой Крепи. Олег видел его и в глазах седых, изукрашенных шрамами воинов, и на лицах шустрых, точно жеребята-стригунки, мальчишек, только мечтающих о подвигах ратных. Девки и старухи, бояре и холопы, невинные и виноватые – князя боялись все. Да и что о людях-то говорить, когда и кони, и собаки, и соколы ловчие боле не признавали Олега. Становился на дыбы, хрипел, бил копытом верный Громень, скулили, прячась по углам, свирепые псы, а соколы норовили клюнуть… Чуяли неразумные болезнь, видели глазом своим черное безумие, поселившееся в сердце княжеском. Он и сам его чуял, совладать пытался, одолеть, да тщетно, дикий зверь то и дело вырывался на волю, творя дела ужасные, которые ни перед людьми, ни перед богами не замолишь.
Напрасно спорили бояре, пытаясь отыскать причину. Одни говорили, будто дело все в волке, которого Олег три зимы тому плетью зашиб, другие божились, что князя водою из следа звериного отравили, третьи на ведьм да колдунов грешили, да только пустые все споры, бестолковые. Знал князь, кого проклинать за безумие: не волка убил, не колдуна, но воина-иноземца, в шкуру звериную облаченного. И случилось это на торгу Новгородском, где обезумевший варяг с топором за людьми безоружими гоняться стал. Страшен он был, глазами красными, турьими, вращал дико, щит круглый зубами грыз, а на землю с губ пена белая летела, точно с жеребца загнанного. Не убоялся Олег варяга, ринулся в бой и милостью Божьей одолел воина-зверя, да только тот, умирая уже, ухитрился-таки заглянуть в глаза князю. Верно, тогда-то и перелетело безумие, смерти страшась, из одного тела в другое.
Или окаянная болячка еще раньше в кровь попала, тогда, когда топор берсеркера-воина стальным пером птичьим бровь рассек? Не в этом ли шраме, ниточке белой, тоненькой, сидит дух волчий?
Заболел князь.
– Здраве будь, княже. – Молчан нерешительно замер на пороге. И он, один на один выходивший на медведя-шатуна, боялся странного недуга.
– Зачем пожаловал? – спросил Олег. Обида на старого друга была горькой, точно листья полыни, которой его пытались лечить.
– Тут, княже, старуха одна… видеть тебя желает.
– Для чего?
– Говорит, знает про беду твою и помочь сумеет.
– Сумеет? – усмехнулся Олег.
Каждый месяц появлялись желающие помочь: лекари, травники, монахи бродячие, даже звездочет один из самого Царьграда был. Все отступили.
– Не веришь мне, княже? – Старуха выглянула из-за широкой спины Молчана. – Правильно, ежели каждому верить, то и веры не останется.
Она засмеялась, затрясла седыми патлами, зазвенела наручьем серебряным да бубенцами, на лохмотья нашитыми. Дряхлая была ведьма, но шустрая, мышью проскользнула мимо Молчана, и вот уже лаптями грязными топчет ковер заморский. Хотел Олег сказать воеводе, чтобы убрал проклятущую бабу с глаз долой, да только застряли слова в горле.
– Иди, иди, воевода Молчан, – замахала руками старая, – у тебя, чай, делов много, а мы туточка с князем покумекаем, как беде его помочь.
К удивлению Олега, Молчан послушно вышел.
– Ну, что, княже, – черные глаза ведьмы заглянули в самую душу, – тяжко тебе?
– Тяжко… – Неожиданная слабость растеклась по телу, а давешняя обида на людей разрослась в настоящее горе. Больно стало. Запоздалые некрасивые слезы медвежьей лапой сдавили горло.
– Помогу я тебе. Научу, как дух волчий усмирить, а ты, княже, пообещай…
– Проси что хочешь! – Олег как-то сразу поверил, что эта старая, как Урганские топи, женщина сумеет одолеть недуг. Ради этого он готов на все, пусть просит, лишь бы помогла.
– За внучкой моей пригляди. Негоже девке в лесу жить. К себе возьми, в Крепь, да следи, чтобы не забижали, а коль получится, то и мужа сыщи хорошего…