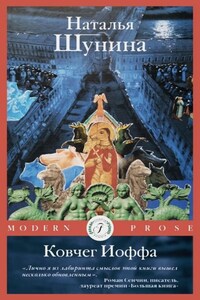Я помню голоса гостей. Яркий свет. Разные по звучанию шаги. Звон посуды. Почему-то я бегу в темную гостиную и рядом с креслом застываю. Передо мной переливается, как голограмма, петух. Я ору. Включается свет. Петуха нет. И я никому не говорю, что он был. Так в возрасте трех с небольшим лет у меня появились первая тайна и червоточина.
С вопросов, что это был за петух, к какому классу созданий он принадлежал и как попал, такой грозный и напыщенный, в нашу гостиную, – я отсчитываю свое профессиональное становление.
Однако нельзя сказать, что мое детство прошло под созвездием петуха. Напротив, это как раз метадетство, какая-то параллельная воронка, которая кружилась где-то в полуметре от моего виска, изредка сбивала с толку, подспудно рассеивала внимание.
И я четко помню момент утечки из этой воронки части образа. Ощущение, что я своровал частицу своего будущего. Помню, из принтера вместо текста полезли каракули, и я никак не мог остановить печать. Принтер пыхтел, вонял краской, выбрасывал листы, как саламандра – язык. А я застыл перед бумагой, испещренной знаками, которые, конечно, были не чем иным, как буквенным кодом.
Они обозначали не язык. Не стиль. А просто неизвестные буквы. Из них складывался я (вопрос, который меня тревожит и по сей день: насколько?). Мне надо было крикнуть: «Здаров, литераморф, здаров!» Но это смутное узнавание прошло мимо, словно накрыло меня густым облаком.
В возрасте восьми лет мне поставили диагноз эписиндром и повезли в Москву, где погрузили в просторную белую трубу томографа. Процедура длилась недолго. Но из-за чудодейственной триады – насыщенности переживаний, минимализма и замкнутости пространства – в уме трепещет лжевоспоминание: я провалялся там денек-другой. Что я засвидетельствовал, будучи обитателем белой трубы?
Я еще раз подтвердил себе, что в горизонтальном положении человек взлетает. Человек летуч. Он даже более летуч, чем запахи. И я летал без умысла и цели, пока вдруг не вспомнил одну странную сценку, случившуюся накануне отъезда. «У Ивана эписиндром!» – прошептала мать, и ее руки с розовыми следами от косметики поползли к лицу. «И что?! – рявкнул отец. – И что?! – агрессивно повторил он, и в его глазах замерцало нечто непостижимое и огромное, то, чему я не смог тогда дать определения. – И пусть! Может, он станет писателем…»
Как знатоки уже поняли, отец готов был принять даже патологию ребенка, лишь бы тот воплотил то, что не удалось ему, несмотря на буйный и творческий темперамент (с первой же минуты знакомства на отца справедливо навешивали ярлык «творческая личность» со всеми прекрасными и фанфаронскими аспектами последней). Однако, кроме себя и цирка вокруг, он ничего не творил. Ничего вещественного. Хотя сейчас его бы признали мастером перфоманса. И, может, я был бы спасен.
Признаться, мало кто замечал на его эпическом фоне меня – отпочковавшуюся тень, погруженную в саму себя и молчаливо, практически с машинной точностью производящую некий творческий продукт. Как горько, господа, что все мы несвободны! А ведь я мнил… Мнил!
Я ощущал себя реполовом, пьющим росу с листвы девственных кустов (тут наивный лиризм и эротизм должны подкрепить давность и глубину укоренения этих сладчайших иллюзий). А оказалось, что я не лучше заводного вагончика, катящегося по рельсам из точки «Е» в точку «Ё». А мое предназначение (это не оценочное высказывание, и я настаиваю на его нейтральности) – железные тиски бессознательного моего родителя.