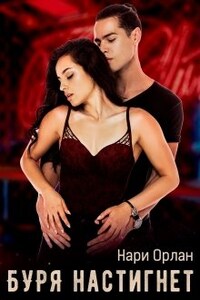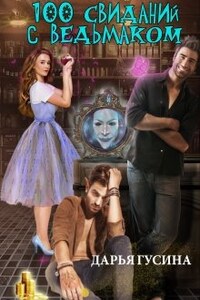Шалфей. Чай, солоноватый и приторный, с
добавлением кенийского перца – наполненные до краев пиалы, на сутки
сместившие со стола кофе и традиционное какао со взбитыми
сливками. Лаванда. Сиреневый бархат на днище
ступы, высушенный и перемолотый – щедрая почесть огню, шепчущемуся
в камине. Полынь. Ароматное тление
свежесрезанного пучка, омывающее дымом углы и изголовья детских
постелей. Духовная чистота пространства – синоним физической
безопасности. По приданиям ничто не отпугивало злых духов лучше,
чем священные травы, которые моя семья проносила в подожженных
вазочках через все комнаты дома накануне Имболка.
– Чем ты меня напоил?
Перечная мята, въевшаяся в кашемир его
свитера. Гвоздика, напоминающая о варящимся в котелке
пряном вине и скором ужине из домашней утки с
брусникой. Дурман, соком которого пропитались его
рукава и пальцы, пока он пять часов безвылазно готовил на чердаке
заклинание, до того безобразное, что оно извращало саму природу
колдовства.
Беззвучная вспышка молнии за окном напомнила мне о бесчисленных
ночах, проведенных вместе под овчинным покрывалом. Черно-белое кино
на прожекторе и подгоревший соленый попкорн. Сплетение рук и ног в
самых надежных на свете объятиях. Мы могли бы лежать так всю жизнь,
наплевав на беспочвенные предрассудки родственников и свободные
спальни в таком огромном особняке. Мы бы могли...
Маттиола, которую он без спроса подмешал мне в
напиток.
– Чай, – снова прохрипела я, разлепив окаменевшие веки и увидев
лицо брата, примостившегося на соседнем краю подушки. – Это был не
шалфей. Ты дал мне другую кружку. То был левкой, да? Я не сразу
узнала вкус.
– Да, цветочный мёд превосходно притупляет горечь левкоя, –
нежно улыбнулся он, любуясь сотворенным со мной. – Всяко лучше, чем
просто подсыпать тебе в газировку лошадиную дозу тетушкиного
Ксанакса.
Я застонала, когда меня скрутил приступ головной боли. Она
прошила виски, и я перевалилась на спину, подавляя рвотный позыв.
Брат насильно вернул меня на нагретое место, сцепив руки в замок
под ноющими ребрами. Все сопротивление, которое я смогла ему
оказать – это конвульсивно скрючить пальцы, силясь стряхнуть
онемение с тела, как птица стряхивает с перьев брызги воды.
– Зачем? – спросила я, в сердцах мечтая увернуться от душного
дыхания брата, когда он придвинулся чересчур близко. Нам двоим на
одной подушке сделалось тесно. – Не помню, чтобы я страдала
бессонницей.
– Иначе ты бы мешалась.
– Мешалась?
– Да. И злилась, а я очень не люблю, когда ты злишься.
Целомудренный поцелуй в лоб ничуть не утешил. Брат погладил меня
по волосам, выбившимся из косы – длинным, неподъемным, которые из
года в год отговаривал состригать.
– Как же Имболк? – Я встрепенулась, и чугунная медовая дремота
наконец-то начала отступать, возвращая голосу силу, а мышцам былую
подвижность. – Только не говори, что пытался досадить ковену,
заставив меня проспать шабаш! Который час? Празднество уже
началось?
– Нет, не началось, – Брат бесцеремонно оттянул назад мою голову
за одну из прядей, стиснув ее между костяшек, чтобы посмотреть на
меня сверху вниз. – И никогда уже не начнется. Маленькой Верховной
не к чему тревожиться об этих варварских игрищах. Мы всегда
предпочитали общество друг друга, так давай снова посмотрим
«Кошачий глаз» и закажем пиццу. Помнишь, в детстве мы мечтали,
как однажды сбежим отсюда и создадим собственный ковен?..
Слюна во рту сделалась вязкой, и предчувствие беды перестало
просто скрести грудную клетку изнутри – оно завопило.
– Что ты сделал?
– Где не будет никаких правил... – продолжал брат, не
слушая.
– Джулиан... Что ты сделал?!
– Где мы будем только вдвоем.
Бессвязные слова. Не менее бессвязные мысли. Его кожа –
болезненно горячая, влажная. Я исступленно заерзала, борясь с
чувством податливости... И с нарастающим гневом. Мой брат, –
сумасбродный, импульсивный, – мог напугать кого угодно, но только
не меня. Невзирая на бред и снотворный настой. Невзирая на
тошнотворные поцелуи, хаотично сыплющиеся до самых ключиц под
верхними пуговицами... Он не был способен навредить ни мне, ни
кому-либо другому. Не был...