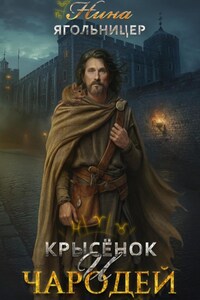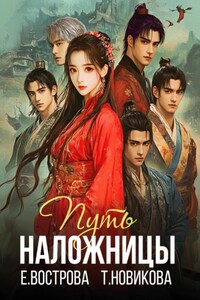Часть первая
– Не вступай с ним в разговоры, брат Китон. И в глаза лучше не смотри, сиди вполоборота.
Послушник нахмурился и прижал к груди молитвенник, будто щит:
– Что я за исповедник, если не буду смотреть грешнику в глаза и вступать в разговоры?
– Ты не исповедник! – отрезал брат Фергус, – ты мальчишка-новиций. Именно поэтому ты идешь к нему. Эту тварь нельзя исповедать, Китон! Ее просто нужно загнать обратно в ад, откуда она вырвалась по недосмотру! Твое дело – сидеть у решетки и читать молитвы.
– Но какой в этом смысл?
– В этом нет смысла! – брат Фергус сбросил клобук, отирая тонзуру, влажно блестящую в неровном свете плохо осмоленных факелов, – это лишь жалкая попытка нашего приора сделать вид, что все как обычно. Что Сатана снова посрамлен, и добрые христиане могут жить бестревожно. Господи помилуй…
Монах машинально пробежал пальцами по агатовым бусинам четок и добавил уже другим, бесцветным и усталым тоном:
– Мне порой кажется, что мы чего-то не понимаем в Божьем замысле, Китон. Что мы просто скудоумные ученики, умеющие лишь рачительно зубрить уроки, но ничего не способные сделать с вызубренным, кроме как хвастаться. Умей мы хоть что-то по-настоящему, в мире не было бы столько зла. А его все больше, и нашими жалкими попытками ему противостоять мы лишь приводим его в азарт.
Снова натягивая клобук, брат Фергус устало кивнул:
– Иди. И просто молись. Не смотри на него. Он совсем не покажется тебе страшным, и это хуже всего. Молись погромче, чтоб слышали другие узники. Ты бессилен помочь этому чудовищу, но можешь хотя бы защитить других, заткнуть им уши, отвлечь. И во имя Господа, не говори с ним.
Снова натягивая клобук, монах не заметил, как новиций упрямо стиснул зубы.
***
В коридоре Соляной башни было полутемно. У самого поворота чадил факел, рвано дыша сыроватым сквозняком. Второй такой же чахло дымил напротив, почти лишенный воздуха.
Брат Китон впервые был в Тауэре. Он шел за конвойным, стараясь не смотреть по сторонам, лишь отсчитывая массивные двери по обе стороны. Конвойный в подбитых гвоздями башмаках, кирасе, и с неуклюжей пикой наперевес, громыхал по коридору, будто катящееся ведро, и послушник невольно чувствовал себя неуместно мягким, бесшумным и хрупким, как войлочная игрушка.
Подведя своего спутника в очередной двери, конвойный кивнул на черный провал окошка:
– Вот, брат. Я вам тута уже скамеечку приволок, чтоб на камнях не сидеть.
Прислонив пику к стене, он чем-то зашуршал в полумраке. Коротко звякнуло кресало, и тьма озарилась дрожащим оранжевым светом – солдат зажег масляный фонарь, стоящий на низкой скамье.
– Извольте. И читать сподручней, и того… крысы повежливей будут, а то больно, шельмы, распоясались.
– Благодарю, – сухо ответил послушник. Почтительная забота увальня в кирасе отчего-то задела его, подогрев чувство собственной уязвимости, – а где осужденный? В камере тьма, как в гробу.
Конвойный неловко откашлялся:
– А шут его знает. Может, спит, может, чертовщину какую замышляет. Он тот еще упырь подвальный. Не плачет, не молится, сидит в темноте да молчит, только скрипит чем-то иногда, – он потоптался на месте и перехватил древко пики, – ну, вы того, брат… позвольте идти, коли больше ничего не надобно. И это… вы от него подальше сидите. Кто его знает, бесноватого…
– Храни вас Господь, – чинно ответил брат Китон, уже с трудом сдерживая раздражение, и конвойный спешно угромыхал в темноту, оставив послушника у скамьи с фонарем.
Китон не посмотрел ему вслед. Он неотрывно глядел в темное зарешеченное окошко в тяжелой двери, чувствуя, как кипящая в нем досада меняет цвет, распадаясь и плавно оседая в душе неопрятными хлопьями, будто в колбе алхимика. Страх… Даже его злость была просто настойкой лютого страха. Как же он сразу не понял? Ну же, не раскисать. Он ждал этого дня восемь лет, и нельзя, невозможно сейчас просто струсить и упустить этот волшебный шанс.