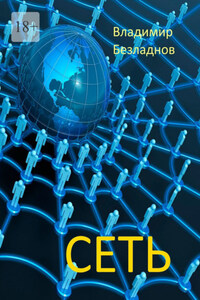I
Была ранняя весна. Деревья были еще голы, хотя уже с сильно надувшимися почками на тополях, на сирени и в особенности на бузине. Приветливое яркое солнце вызвало уже кое-где зелень на лугах, но низины были еще под водой, ручьи громко журчали, и кое-где в теневых местах и канавах лежал еще белый снег. То там, то сям пахали и боронили под ярицу, под овес и под картофель.
По грязной дороге к воротам большой барской усадьбы, стоящим в толстых каменных столбах, увенчанных чугунными львами с оскаленными зубами, катящими правой лапой большой шар, подъехал небольшой франтоватый тарантас без верха и остановился. Сытый, рыжий, выхоленный, слегка взмыленный конь в нарядной сбруе с густым медным набором и в расписной дуге позвякивал бубенчиком, мотая головой. В тарантасе сидели двое: широколицый с реденькой бородкой в проседь купец-лесопромышленник Мануил Прокофьевич Лифанов и его кучер, молодой парень Гордей, безбровый, с льняными волосами, с еле пробивающейся бородкой и с серебряной серьгой в ухе. Он был в нанковой поддевке со стеганым и проваченным задом, опоясанной красным кушаком, и в картузе.
– Здесь сойдете, Мануил Прокофьич? – спросил кучер, обертываясь к хозяину.
– Зачем? С какой стати? Чего тут церемониться? Теперь уж тут все наше, – отвечал Лифанов. – И усадьба наша, и земли наши. Слезай, отворяй ворота настежь и подъезжай к главному подъезду.
Скрипнули давно не крашенные тяжелые железные ворота на ржавых петлях, и тарантас покатился к большому господскому дому по широкому въезду, обсаженному по сторонам шпалерой не стриженным в прошлом году кратегусом. Въезд был грязен, на нем лежали еще прошлогодний лист, хворост, сбитый с деревьев ветром осенью. То там, то сям валялись старый башмак, прилипшая к земле бумага, обглоданные собаками кости, битые горшки, битые бутылки, и было насорено гниющей соломой, щепками, древесной корой. Не подстрижены были с осени и два тополя, стоявшие против главного подъезда. Среди большой круглой клумбы валялись разбитый зеркальный садовый шар, ржавые железные обручи от кадки, а вокруг всего этого вылезли уже из земли пригретые весенним солнцем и зацветшие уже голубенькие сциллы, желтые крокусы и красовался цветок белого нарцисса с желто-красным кружочком внутри.
Тарантас, однако, проехал мимо широкого крыльца барского дома, составляющего портик с толстыми сильно облупившимися белыми колоннами, и, по приказанию Лифанова, остановился около пристройки, составляющей кухню. Здесь из-за разбитых оконных стекол, местами заклеенных бумагой, показалась бабья голова в красном платке, из-за угла выскочил красивый сеттер и слегка залаял. Около кухни было еще грязнее, стояла лужа помоев.
Лифанов вылез из тарантаса. Это был приземистый полный человек в высоких сапогах и резиновых калошах, в забрызганном грязью коричневом пальто и в картузе с белым чехлом. На дворе никого не было. Он посмотрел по направлению к целому ряду помещавшихся вдали хозяйственных построек – и там было безлюдье. В хлеву мычала корова. Экипажный сарай был отперт, из него торчало дышло какого-то экипажа, и на нем сушилась красная кумачовая рубаха.
– Словно вымерло все… – проговорил Лифанов. – И Гурьяна-кровельщика, должно быть, здесь еще нет, а я послал его осмотреть крышу у дома до моего приезда.
– Пусто. Хоть шаром покати, – отвечал кучер. – Да ведь и то сказать: у них и людей-то нет. Все разбежались. Прошлый раз мы были на Пасхе, так один кучер да две бабы. А какой он кучер? Он и кучер, он и дворник, он господам и на стол подает. Говорят, жалованья не платили.