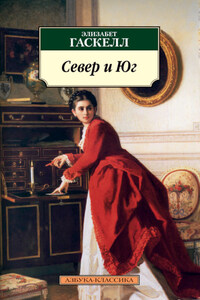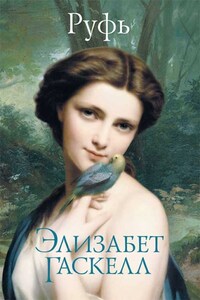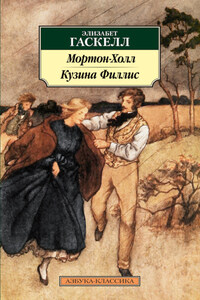Теперь я стара, и все вокруг выглядит иначе, нежели в дни моей юности. Прежде мы путешествовали в каретах, вмещавших в себя по шесть человек, и проделывали за два дня путь, который нынче преодолевают всего за пару часов: проносятся мимо на бешеной скорости с шумом и таким пронзительным свистом, что недолго и оглохнуть. Письма прежде приходили всего трижды в неделю, а в некоторых отдаленных уголках Шотландии, где мне приходилось живать в молодости, почту доставляли и того реже, раз в месяц, но зато это были письма так письма. Мы их чрезвычайно ценили, перечитывали и изучали, как книги. Нынче же почтовый дилижанс с грохотом прокатывается по улице дважды в день, доставляя коротенькие обрывочные записки без начала и конца, порой содержащие всего одно предложение, которое благовоспитанные люди сочли бы слишком отрывистым, чтобы произносить его вслух. Да-да-да! Возможно, все это перемены к лучшему, не спорю, но теперь вы уже не встретите такой дамы, какой была леди Ладлоу.
Я попробую вам о ней рассказать. Впрочем, это даже не рассказ, ибо у него нет ни начала, ни середины, ни конца.
Батюшка мой был бедным священником, обремененным многочисленным семейством. Про мою матушку говорили, что в ее жилах течет благородная кровь, и, когда ей хотелось напомнить об этом окружающим – преимущественно богатым фабрикантам-демократам, которые говорили только о свободе и Французской революции, – она надевала гофрированные манжеты, отороченные настоящим английским кружевом ручной работы (к слову сказать, не раз подвергавшимся штопке), коих нельзя было купить ни за какие деньги, ибо искусство плетения подобного кружева было утрачено много лет назад. По ее словам, эти манжеты свидетельствовали о том, что ее предки имели вес в обществе, в то время как деды богатеев, взиравших на нее сверху вниз, были никем, если, конечно, эти деды вообще существовали. Не знаю, замечал ли кто-нибудь за пределами нашего семейства существование этих манжет, но мы с детства приучились испытывать неподдельное чувство гордости, когда видели их на руках нашей матери, и держать головы высоко, как и надлежало потомкам леди, ставшей первой обладательницей этого кружева. Мой дражайший батюшка часто говаривал, что гордыня – великий грех. Впрочем, нам позволяли гордиться лишь манжетами нашей матушки, но она выглядела такой невинно-счастливой, когда их надевала – частенько к поношенному и изрядно залатанному платью, бедняжка! – что я, даже несмотря на свой богатый жизненный опыт, по-прежнему считаю их благословением нашего семейства.
Вы можете подумать, будто я позабыла о леди Ладлоу. Вовсе нет. Дело в том, что и моя матушка, и леди Ладлоу имели общую прародительницу Урсулу Хэнбери, первую обладательницу бесценного кружева. Так уж вышло, что после смерти нашего несчастного батюшки моя мать совершенно растерялась: не в силах справиться со своими девятью детьми, отчаянно искала, кто вызвался бы оказать ей посильную помощь, и неожиданно получила письмо от леди Ладлоу, которая выразила желание оказать ей содействие и поддержку. Я как сейчас вижу это письмо – большой лист плотной желтой бумаги с оставленными на левой стороне прямыми широкими полями, испещренный ровными строчками. Благодаря изящному тонкому почерку оно содержало гораздо больше слов, нежели эти современные послания, написанные в размашистой мужеподобной манере. Письмо было запечатано гербовой печатью в форме ромба, поскольку леди Ладлоу овдовела. Мать указала нам на девиз «Foy et Loy» и на четыре составляющие герба рода Хэнбери и лишь после этого распечатала письмо. Мне кажется, она немного опасалась его содержания, поскольку, как я уже сказала, движимая трепетной любовью к своим осиротевшим детям, она отправила множество писем разным людям, у которых, по правде говоря, не имела права требовать помощи, и их холодные, жестокие ответы не раз заставляли ее плакать, когда она думала, что ее никто не видит. Затрудняюсь сказать, встречалась ли она когда-нибудь с леди Ладлоу лично. Тогда я знала лишь, что это очень знатная дама, чья бабка приходилась сводной сестрой прабабушке моей матери, но ничего не могла сказать ни о ее характере, ни о материальном положении, и в этом отношении, как мне кажется, мало чем отличалась от собственной матери.