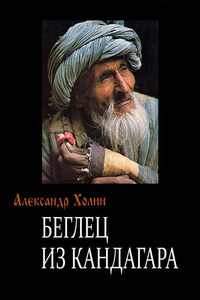Однажды в конце тридцатых годов стоял прекрасный осенний день. В то время в Упсале на одной из отдаленнейших окраин города находился высокий, желтый двухэтажный дом. Он стоял на небольшом лугу и производил странное впечатление своим полным одиночеством. Это был очень невзрачный и несимпатичный по своему наружному виду дом, но его скрашивала масса дикого винограда, вьющегося по стенам. С солнечной стороны виноград вился так высоко по желтой стене, что обвивал со всех сторон три окна в верхнем этаже.
В одном из этих окон сидел студент и пил свой утренний кофе. Это был высокий, красивый юноша с благородной внешностью. Его волосы были высоко закинуты надо лбом и красиво вились, а одна прядь упрямо падала на глаза.
В комнате молодого человека была хорошая обстановка, состоявшая из дивана, мягких кресел, большого письменного стола и роскошных полок, на которых, впрочем, почти совсем не было книг.
Не успел он выпить свой кофе, как к нему вошел товарищ-студент. Этот был совсем другим: он был низкого роста, широкоплечий, плотный и сильный, с большим, некрасивым лицом, жидкими волосами и грубой кожей.
– Послушай, Хеде, – сказал он, – я пришел серьезно поговорить с тобой.
– Уж не случилось ли с тобой чего-нибудь неприятного?
– Ах нет, дело идет не обо мне, – отвечал вошедший, – это касается тебя.
Некоторое время он сидел молча, опустив глаза, потом прибавил:
– Мне чертовски неприятно говорить про это.
– Тогда не говори, – предложил Хеде, которому стало смешно при виде необычайной серьезности товарища.
– В том то и дело, что больше я не могу молчать, – отвечал гость. – Я должен был бы уже давно поговорить с тобой, но ты понимаешь, что именно мне-то неловко это делать. Мне все кажется, что ты думаешь про себя: этот Густав Олин ни более, ни менее, как сын нашего торпара, а теперь он воображает себе, что может наставлять меня.
– Прошу тебя, Олин, – сказал Хеде, – не думай, что мне когда-нибудь может прийти в голову подобная мысль. Ведь мой отец был также сыном крестьянина.
– Да, но теперь уже все давно забыли это, – заметил Олин.
Он сидел перед Хеде в ленивой и небрежной позе и с каждым мгновением все более принимал облик и манеры крестьянина, как бы стараясь этим побороть свое смущение.
– Вот видишь ли, когда я думаю о том, какая разница между твоей родней и моей, то мне кажется, что я должен молчать, но когда я вспоминаю, что твой отец дал мне возможность учиться, то я убеждаюсь, что должен поговорить с тобой.
Хеде ласково посмотрел на него своими прекрасными глазами.
– Так говори же, чтобы освободиться наконец от этого груза, – сказал он.
– Дело в том, – начал Олин, – что до меня дошли слухи, будто ты ничего не делаешь. Говорят, что едва ли ты раскрывал хоть одну книгу за все четыре семестра, проведенные тобою в академии. Ты, будто бы, только и делаешь, что играешь на скрипке целыми днями. И я думаю, что в этом нет ничего невероятного, так как ты и прежде, когда учился в школе в Фалуне, ничего не хотел делать, но там тебя заставляли работать.
Хеде немного выпрямился на своем стуле.
Олин чувствовал себя все более несчастным, но он продолжал с твердой решимостью:
– Ты, вероятно, думаешь, что тот, кто владеет таким поместьем, как Мункхюттан, может делать, что ему вздумается: работать, если захочет, или же вовсе ничего не делать. Выдержишь ты экзамен – ладно, не выдержишь – тоже хорошо, так как в последнем случае ты станешь помещиком и всю свою жизнь проживешь в Мункхюттане. Я хорошо знаю, что-этого-то ты и желаешь.
Хеде молчал и Олину казалось, что он замкнулся в своей гордости, как это бывало с его матерью и отцом.