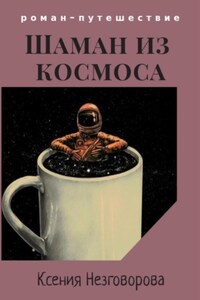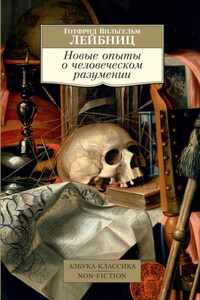*Запись, найденная в тюрьме для особо опасных преступников
Переписана, отредактирована, ошибки исправлены
Когда я просыпаюсь с невысказанным словом на губах, то думаю об одной тебе. Всё ещё помню тот свежий малиновый запах, который исходил от твоей светлой живой кожи. Поэтому, наверное, другим так нравилось тебя обнимать, сильнее прижимать к фарфоровому сердцу и надеяться, что оно вдруг забьётся. Ты единственная знала, где фальшь, а где истина, но сохраняла это ощущение внутри себя, чтобы не выдать. Ты поставила перед собой цель: не стать такими же, как они, остальные… Но разве в самом этом разделении нет щепотки самодовольства?
Когда ты была, всё вокруг казалось окрашенным в тона твоей неистощимой фантазии. Мир был равен вдоху-выдоху твоих легких и знал, что ты суть любовь. Глиняные человечки, сжатые в круг поработителя-социума, тянули к тебе маленькие ручки, как если бы видели перед собой Будду, Христа, Аллаха. Ты не изрекала истин, но жила всегда как-то по-своему – так, что сложно не позавидовать.
В детстве обожала праздники, потому что мама пекла любимый абрикосовый пирог. И тогда, в натопленном доме, наступало время волшебства, домовой в деревянных лаптях хитро подмигивал наряженной девочке, а метель за окном казалась неправдоподобной, далёкой. Как хорошо было сидеть на скрипучей кровати и считать снежинки на стёклах, наблюдая за беспокойной жизнью другого мира. На кухне, склонившись над печью, стояла немолодая, но всё ещё красивая полная женщина в халате с голубыми цветами и напевала:
Как со вечера пороша,
До полуночи метель.
Ой, по этой, по метели,
Трое саночек летели.
Ой, по этой, по метели,
Трое саночек летели…
Ты выбегала и обнимала её за талию, а она улыбалась и ругала, что с босыми ногами.
– Когда придёт папа?
– Папа?..
С глухим поскрипыванием открывалась тяжёлая входная дверь, и широкоплечий заснеженный мужчина пересекал границу, разделявшую два мира. Любимая дочка бросалась в холодные объятия, смахивая с пушистого полушубка серебристые снежинки, а он целовал её в макушку и наказывал, чтобы больше так не делала – простудится. От отца пахло зимним холодом, крепкими сигарами, машинным маслом; его поцелуи всегда были очень колючими из-за бороды, и ты иногда недоумевала, как мама это терпит?..
За круглым столом, обтянутым белой, свежей после ручной стирки скатертью, всегда сидела в середине, улыбалась гостям, рассказывала стишки, которые учили в школе, всех веселила и веселилась сама. А на «десерт» оставляла рисунки, которые, конечно, хотела показать родственникам. Папа покупал для юной художницы хорошую плотную бумагу и акварель. Когда сосредоточенно склоняешь голову, набирая краску, чувствуешь карамельно-медовый запах. Именно поэтому ты называла краски любимым лакомством, хотя его и нельзя попробовать на вкус. Писала пейзажи, потому что любила природу больше всего на свете, и, когда родители брали тебя с собой в лес за грибами, усаживалась под каким-нибудь мохнатым деревцем и начинала зарисовывать. Никогда не сомневалась, что это кому-нибудь нужно, главное – нравилось тебе самой. Ты вообще жила так всегда: во всём умудрялась находить что-то особенное и от всего получала удовольствие. Завидую тебе, вот бы мне воспользоваться твоим даром сейчас!.. Но я ведь пленник своей пещеры, которой боюсь, как чудовища-Минотавра. Эти стены отбирают воздух: здесь нет ни окон, ни дверей. Впрочем, я создала эту крепость собственными руками. В лучших традициях XIX века могу воскликнуть: «Я не его убила, я себя убила!» Убила себя и того Бога, который живёт в каждой стремящейся к свету душе.
…Это было то первое чувство, которое часто путают с любовью. Впрочем, тебе было всего пятнадцать, поэтому и простительно. Изящная, хрупкая, счастливая. Горящие глаза, искренняя улыбка, свобода в движениях… воплощённое творчество. Летнее платье, не перехваченная лентой косичка, расстёгнутые сандалии. Сердце, открытое для самопожертвования. Руки, готовые обнимать. Губы, ждущие душистого, как цветок, поцелуя. В пятнадцать лет даже мечтательный розовощёкий мальчишка кажется героем. По крайней мере, хочется так думать и воображать, что рядом с тобой – рыцарь. А он – добрый до бесконечности – но совершенно бестолковый и, конечно, не защитник, робко и неумело целовал тебя в щёку и поклонялся твоим пейзажам. Вот что хуже всего – раболепие; сначала оно тебе льстило, а потом окончательно надоело. Однажды ты вдруг поняла, что чувства-цветы завяли, и на смену пришла только лёгкая жалость: а как же он переживет твоё «не люблю?» Боялась быть резкой, но всё же вонзила кинжал-слово в грудную клетку и, не оглядываясь, ушла. Ты просто не хотела слепого поклонения, тебе необходимо было что-то совсем другое, но пока ещё сама не знала, что именно. Не разбиралась в сути, потому что умела улавливать только частички; в целое они сложились многим позже.