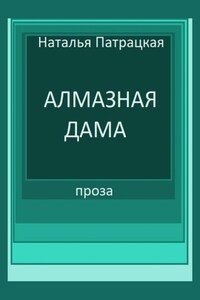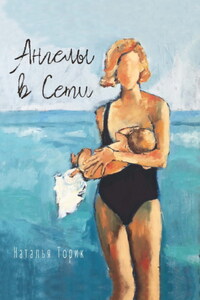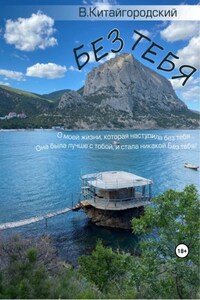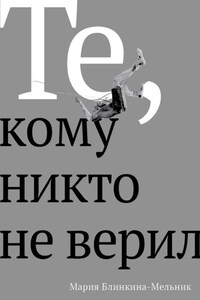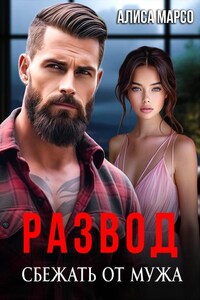«В бесконечных нас неисчерпаемы закаты и бессмертны рассветы», – этой надписью зевало сероглазое утро. Чей-то красивый почерк буквы вывел, и они, паря по скользкому прозрачному воздуху невесомо и надмирно, мягко легли на щербатую стену, в которую врос прямоугольник выхода с крыши. Вова, положив ладонь с сигарой на лицо и грубо затянувшись небом и табачным дымом, бросил сомневающийся взгляд на заворожённо застывшие линии дремучих панелек и спокойных дорог города, рассекшие сетью мокрую ткань пространства, в квадратах которой тени хранили тайны и надежды – оставленные следы несделанного шага. Над городом удобно уселось небо, прильнув к самым высоким плоскостям крыш. Среди кровель и нечастых туч бродил босиком свет, сползая вниз яркими каплями, пронзая кочующий улицами и проулками смог догорающих торфяников. Колебались на ветру провода, точно немые струны, увязнув в топях не то предрассветных, не то постзакатных сумерек. Где-то совсем рядом тревожился хлопот голубиных крыльев, но виден не был. Пальцы касались парапета с оттенком приблизительности положенного чувства, испытывая реальность на соответствие ей, прописанной на кончиках пальцев. Шершавая, точно кошачий язык, поверхность меняла обличье, томно вздыхала. И тем наскучила.
Вова, миновав пролёты лестниц, полных полётов диковинных птиц, белых теней и эха отголосков забытых имён, прошагал через мрачную пустошь коридора, уверенно-размашистым движением распахнул массивные дубовые двери и вразвалку вплыл в залитый лоснящимся светом простор офиса. Манерно приспустил огромные (разумеется, люксового бренда) солнцезащитные очки-авиаторы на кончик носа, вкусившего флёр примесей новоявленностей – изысканного кофе и хрустящей, точно хлеб в руках пекаря, бумаги. Броско переместил дорогую сигару из одного уголка рта в другой. Чинно выпустил немного элитарного сине-сизого дыма упругим гибким кольцом, пролетевшим через всё помещение и скользнувшим под дверь его кабинета. Надменно огляделся: настойчивые солнечные лучи лились на глянец пола, лёгкая дымка турбулентно петляла между полосками света и тьмы, лукаво вплетаясь и ненавязчиво связывая их.
В дальнем углу, где полосующие пол жалюзи суживали глаза просторных окон, закинув ноги на г-образный стол, на троновидном поскрипывающем стуле развалился Костик, облачённый в стильные, подвёрнутые брючки и приталенную рубашку цвета маренго; на тонком носу его ютились крохотные очки. Он, хватким плечом удерживая телефон, поднял в руке белёсую чашку с чёрным кофе, беззвучно приветствуя Вову улыбкой, медленно, по-змеиному хитро, оскаливая белые зубы и воплощая образчик отутюженного офисного бездельника по понедельникам. Вова в ответ благородно, а-ля Цезарь, вознёс левую руку, стиснутую дорогими часами на запястье и объёмными золотыми перстнями окольцованную на перстах. Неспешно полз Вовин взгляд дальше. В смежном углу, у полукруглого массива стола, в поклоне стоял Евген. Он важно раскладывал вспотевшими ладонями тугие пачки банкнот по кейсам. Чуть правее на столе густела паром чашка с янтарным чаем, круглой лимонной долькой восходило солнце в ней. Евген, разодетый в светлые брюки, рубашку и жилетку неприлично дорого семейства одежд и явно заморского шитья, поцеживал тонкую сигаретку. Огромный православный крест, висящий на толстой платиновой цепи, тянулся вниз, к деньгам, с явным отвращением распятого божьего сына.
– Привет, Вован, – выдохнул сигаретный дым басящий Евген, обернувшись и собрав у носа веснушчатую крошку улыбкой. – Ты сегодня крут, как пятиминутное яйцо.
– Базаришь, – бросил Вова, окунув взгляд в огромное, с вычурной золотой рамой зеркало, проросшее в полстены от высокого потолка до вылизанного пола.