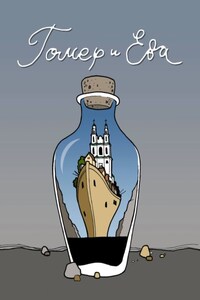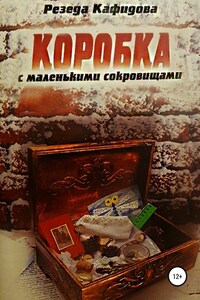Тебе, без которой эта книга так бы и осталась кусками.
На серой, как дедушкин пиджак, стене бывшего горкома партии черным маркером была сделана огромная надпись:
«ЕШ БОГАТЫХ»,
и, возможно, из-за этой безграмотности, в надписи чувствовалась такая сила и злоба, что даже много лет спустя, когда здание было отремонтировано и отреставрировано, проходя мимо, я все еще видел ее, проступающую из глубин памяти через уродливый пластиковый сайдинг бледно-розового цвета, вылезающую наружу как напоминание о чей-то неимоверной ненависти, законсервированной во времени, презирающей время, решительно не принимающей попыток хоть как-то облагородить внешний вид города, которыми так гордились сотрудники местной администрации. Я вспоминал эту надпись почти каждое утро, когда шел на работу и почти каждый вечер, когда возвращался домой, останавливаясь у знакомой стены, глядя на тошнотворный бледно-розовый пластик сайдинга, удивляясь, как чья-то злоба и решительность – вот так, даже спустя двадцать пять лет, – поражает меня своей монументальностью, какой-то античностью, вечностью, состоящей всего из двух слов, крепко врезавшихся в память и никак не желающих оттуда уходить. Даже когда я уехал, избавившись от необходимости заставлять себя вставать по утрам на работу, я порой вспоминал эти длинные черные буквы, а сейчас, вернувшись, ничто не помешает мне в очередной раз пройтись по знакомому маршруту, навстречу собственным воспоминаниям.
1 декабря мне нужно будет забирать свидетельство о разводе, так что у меня достаточно времени на воспоминания. Я вернулся домой, открыл окно, впуская в квартиру утреннюю тишину этого города, включил музыку и сделал себе кофе. Да, этот город определенно подходит для разводов – он тих, уютен, не скандалит, и разводы в нем проходят также, притворно тихо и даже вежливо. Когда я подавал заявление, стараясь не пресекаться глазами со своей супругой, мне стало откровенно не по себе. Впрочем, это вполне объяснимо. До нашей встречи в ЗАГСе весь кавардак, непонимание и несовместимость были вещами настолько далекими и абстрактными, будто не имели ко мне никакого отношения. Теперь же, мысленно опустив голову, я признавался себе – да, было. Я мысленно присел, мысленно закурил, мысленно тер глаза, стараясь справиться со знакомой всем смесью обиды и бессилия. Но только – мысленно. Потому что я улыбался, всем своим видом стараясь не накалять обстановку; и все происходящее, на первый взгляд, не имело для меня никакого значения. Она разговаривала по телефону, я читал наспех купленную в ближайшем ларьке дешевую книгу, изредка поглядывая по сторонам, ожидая очереди. После мы мило покурили на крылечке ЗАГСа и разошлись в разные стороны, как актеры в конце провальной постановки расходятся по разным кулисам.
Последний акт. Я вспомню все закаты и прогулки, последний вздох на лестнице – и выдохну, губами в губы, языком по языку. Прощальный взгляд, разбитый, но надменный; последнее дрожанье твоих плеч, замерзших посреди морозной стужи таких несовершенных отношений. Кусая губы, разжимая руки, я отвернусь и вдоволь намолчусь. Я ухожу, не смея повернуться, не зная, смотришь ли мне вслед, иль так же, как и я уходишь тихо, боясь того, что я не обернусь. Занавес опустится мгновенно, потухнет свет и опустеет зал после того, как мы, не поклонившись, с тобою разойдемся в разные кулисы. За сценою пройдем мы незаметно, усталые глазами и душой, ногами, языками, каждой клеткой, стараясь, чтоб никто не подсмотрел. На выходе на миг сомкнуться плечи, чтобы разбежаться в разные углы, и больше никогда уж не встречаться. Я улыбнусь, остановив мгновение, ведь завтра будет новая премьера. А этот мы спектакль отыграли, и в новом у меня другой партнер.