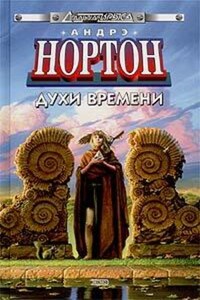Память – это, прежде всего, дорога. Но когда проходишь ее вновь и вновь, ища в ней следы своего существования, она имеет свойство жестоко запутывать и морочить.
Я пытаюсь всего лишь вспомнить себя.
Слезы. Отчаянный плач – вот первое, что вспоминается мне, когда я представляю себя ребенком.
Моя жизнь началась с первым ударом погребального колокола.
То был день похорон моего отца – кавальери Томмазо Азиттизи, великого суверена и первого приближенного короля Альфонсо Светоносного. Отец, подобно всем мужчинам нашего высокородного семейства, должен был обрести вечный покой в прихрамовой усыпальнице из черного мрамора, где уже стояли ровными рядами каменные гробы прежних владельцев Пьетро-делла-Чьяве. В последний путь дона Томмазо провожал сам король и знатнейшие суверены Старой Литании. Погребальная процессия, над которой мерно колыхались приспущенные знамена, двигалась из замка в Рощу смерти, отделенную от жилых построек мелководной речкой Габьяной. Среди провожающих не было ни одной женщины, дабы не омрачать торжественности момента плачем и другими выражениями слабости. Даже жену покойного кавальери – домину Катарину – не пустили проводить супруга. Впрочем, если б она и получила разрешение следовать в кавалькаде, то все равно бы не смогла.
Ибо она в это время рожала меня.
Как я узнала годы спустя, родовые схватки у моей матери случились раньше, чем положено. Совершенно раздавленная смертью мужа, домина Катарина в безрассудстве попыталась броситься с замковой стены, однако служанки ее удержали и перенесли в покои, где у матери отошли воды, и через несколько часов повитуха приняла меня – жалкий комочек окровавленной плоти.
– У вас родилась дочь, госпожа, – сказала она, но мать лишь слабо повела рукой, словно отгоняя меня, и закрыла глаза. Повитуха перевернула меня вниз головой и крепко шлепнула по заду, и от этой первой обиды, нанесенной мне миром, я завопила во всю мощь легких.
А колокол звонил, разнося по всем нашим землям весть о внезапной кончине господина. И конечно, в этой великой скорби не было места для радости по поводу рождения какой-то девчонки.
Мой отец уже избрал наследника всех своих богатств – это был Франко – мой старший брат. Среднему – Фичино – приходилось смириться с тем, что из роскошных земель, принадлежащих роду Азиттизи, ему будет отведена лишь треть и то, если он подвигами во имя короны докажет свою состоятельность. Мне же – девчонке – полагалось лишь расти и ждать, когда меня кто-нибудь сосватает и увезет из родного кастелло.
Первые недели и месяцы моей жизни покрыты густым мраком, из которого я ничего не могу припомнить. Пожалуй, я начала осознавать себя лишь тогда, когда мне исполнился год. И это осознание пришло ко мне вместе со слезами.
Мое первое воспоминание не есть самое лучшее. Я лежала в колыбели и орала изо всех сил, потому что свивальники были мокры, и к тому же я хотела есть. Извиваясь как червяк под лопатой, я таращила глаза на кружевной балдахинчик и вопила, призывая хоть какую-нибудь добрую душу прийти и поухаживать за мной. Было душно, тошно, тесно, а более всего пугало то, что никто не сможет мне помочь. И даже та молодая и очень красивая женщина с большой грудью, полной вкусного молока, не придет ко мне! Однако, сделав короткую передышку между воплями, я услышала противный скрип открывающейся двери. Я уже связывала этот звук с появлением красавицы и принималась гулить и пускать пузыри, привлекая к себе ее драгоценное внимание.
Кружевная накидка приподнялась, и я увидела женщин, склонившихся над моей колыбелькой. Одна из них была та самая красавица с большой грудью, круглым румяным лицом, черными кудрями, выбившимися из-под оборок чепца, и в светлом платье. Я перевела взгляд на другую женщину и чуть не развопилась снова. Одетая во все черное, худая, бледная, со строго сдвинутыми к переносице бровями, она была похожа на тень из дурного сна. Поджав и без того тонкие губы, она наблюдала за мной так, словно я была каким-то отвратительным насекомым. Ее руки, унизанные перстнями, были сложены на груди, точнее, на том месте, где груди полагается быть. Лицо с бледной кожей, тенями под глазами и высокими скулами казалось лицом покойницы, и от ужаса я разревелась снова.