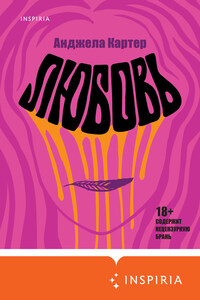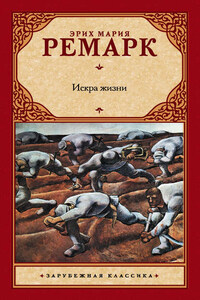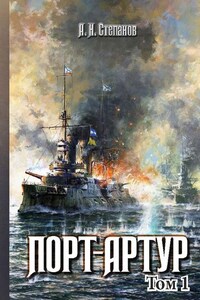Однажды Аннабель увидела в небе сразу солнце и луну. От этого зрелища ей стало так жутко, что ужас поглотил ее полностью и не отпускал до тех пор, пока ночь не завершилась катастрофой, – ведь инстинкта самосохранения у Аннабель не было, когда перед нею вставали двусмысленности.
Случилось такое, когда она шла домой через парк. В системе соответствий, по которой она толковала мир вокруг нее, парк этот имел особое значение, и она ходила по его заросшим тропинкам с боязливым удовольствием – особенно зимой, когда свет порою бывал желтым, тускловатым, деревья – голыми, а солнце на закате окаймляло ветви холодным огнем. Садовник XVIII века разбил парк вокруг особняка, который давным-давно снесли, и некогда гармоничная искусственная чащоба, беспорядочно взъерошенная временем, теперь расползлась своими зелеными зарослями по всему уступу высокого холма, от которого рукой подать до оживленной дороги, проходившей мимо городских доков. От прежнего особняка осталось лишь несколько архитектурных придатков – ныне собственность городского музея. Конюшня, напоминающая Парфенон в миниатюре, – жилище скорее для гуигнгнмов, чем для нормальных лошадей: ни один конь больше не вступит в портик с колоннами, особенно эффектный при полной луне, элемент чистой декорации, центр композиции зеленых насаждений на южном склоне, куда Аннабель забредала редко – безмятежность ей быстро наскучивала, а средиземноморский колорит этого участка не возбуждал. Она предпочитала готический север, где в деревьях таилась овитая плющом башня со стрельчатыми окошками в свинцовых переплетах. Оба этих причудливых каприза архитектуры держали под замком, опасаясь вандализма, но одно их присутствие играло предназначенную роль – парк оставался тщательно продуманным театром, в котором романтическое воображение может разыгрывать любые спектакли, какие только впишутся в декорации классической гармонии или старомодной зауми. К тому же волшебную странность парка усиливало странное безмолвие. Шаги по высокой траве звучали мягко, птицы почти не пели, однако вокруг расползался бурливый город, и, как бы ни был приглушен его шум, тишина здесь казалась неестественно призрачной, будто парк затаил дыхание.
Сюда вели только одни ворота, все еще внушительные на вид, – массивные, чугунные, украшенные херувимами, звериными масками, стилизованными рептилиями и пиками, с которых давно слезла позолота; но ворота эти никогда толком не открывались и не закрывались. Створки висели слегка приотворенными, поникнув от старости на петлях; никакой цели они не служили, ибо все ограды вокруг давно исчезли и бродить по парку можно было запросто. Парк размещался на такой возвышенности, что, казалось, парил в воздухе над огромным туманным макетом города, и те, кто в него забредал, остро чувствовали свою наготу перед ликом стихии. Временами казалось, что парк пригоден лишь для игрищ ветров, а порой – что он лишь сточная канава всем дождям, которые только способно вылить на землю небо.
Аннабель шла через парк именно в сезон пронизывающих ветров и мертвенной погоды, в ранних зимних сумерках, – и вдруг ни с того ни с сего посмотрела на небо.
Справа от себя она увидела на склоне холма залитый солнцем квартал скученных домишек, в котором она жила, а слева, над шпилями и небоскребами городского центра, в расселине абсолютной ночи недвижно висела луна. Хотя одно светило садилось, а другое восходило, и солнце, и луна сияли так ярко, что сами небеса разделились на два отрицающих друг друга состояния. Аннабель не могла отвести глаз от этой высоты – ее ужаснул такой кошмарный бунт против привычного. Ничто в ее мифологии не умело разрешить для нее этот конфликт, и она мгновенно ощутила себя беспомощным шарниром вселенной, точно солнце, луна, звезды и все воинства небесные вращались вокруг нее, своей безвольной оси.