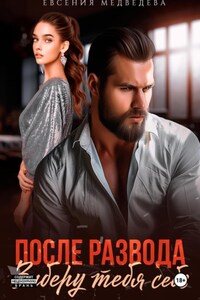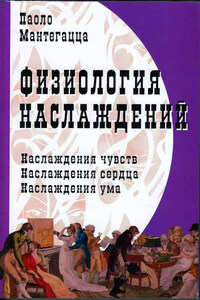Там, где останавливаются часы.
Когда электричка, словно уставшая птица, выплюнула Миру на маленьком перроне, воздух встряхнулся от запаха влажных берёз и речной прохлады. Был конец августа, тот короткий промежуток, где лето уже не в силах жечь, но ещё помнит, как умеет пахнуть полевыми травами. Мире было двадцать шесть, и она возвращалась в город своего детства впервые за последние десять лет – для того, чтобы закрыть старую дверь, которую никто не использовал.Дом бабушки стоял на окраине, на тихой улице, где клены сплетались ветвями поверх забора, словно ласково прикрывая от мира всё, что происходило под ними. Бабушки не стало полгода назад, и Мирина мать, со своей немецкой рациональностью и нежеланием заходить в прошлое, перевела квартиру на имя дочери и предложила продать. Мира упрямо отказалась, хотя не знала, зачем.Вечером, разбирая посылки и древних лоскутных кукол, она откопала деревянные настольные часы. Их корпус был гладко натёрт до янтарного блеска, стрелки остановились на том же мгновении, в котором они когда-то жили – на половине шестого. На циферблате кто-то тонко процарапал: «Слушай». Вероятно, дед, музыкант, который когда-то учил Миру слышать сквозь шум магазина и автобуса целую симфонию мальчишеского смеха и собачьей лая. Она взяла часы в руки и в первый раз за день позволила себе заплакать.
Ночью ей снилось, что дом – это не место, а музыкальный такт, в который можно возвращаться, когда в городе срываются счёты. И часто в этих снах она слышала голос, в котором было что-то знакомое и чужое одновременно. Голос говорил: «Слушай», и за этим словом плыли ласточки и корабли.Утром Мира пошла в городскую библиотеку, где хотела найти старые фотографии, вырезки из газет, предметы, которые могли бы объяснить бабушкин смех и тоску, как будто она всю жизнь чего-то ждала. За столом каталогов сидела девушка с живыми глазами и веснушками, она подняла взгляд и улыбнулась:
– Вам помочь?
– Я ищу фотографии старой музыкальной школы, – ответила Мира. – И, возможно, статьи о фестивалях двадцать лет назад.
– О, у нас тут клад, – девушка кивнула. – Я Соня. Пойдёмте, я вам покажу.
Они прошли мимо ржавых батарей и деревянных полок, к шкафу, где хранились архитектурные планы и большие альбомы. Соня ловко вытаскивала папки, расстилала их на столе, и город прошлого выныривал из жёлтой бумаги: женщины в платьях из ситца, мальчишки с гармонью, сцена под навесом, над которой висела вывеска: «Дом культуры – музыкальная гостиная».
– У вас в глазах – этот берег, – сказала вдруг Соня. – Вы отсюда?
– Я – внучка Елизаветы Андреевны. Она жила на улице Кленовой.
– Я её помню! Она приходила к нам с пирогами-пирожками на День библиотекаря… Простите. – Соня улыбнулась. – Очень тёплый человек.
Мира кивнула и опустила глаза, чтобы не расплакаться прямо в эту светлую, ржавую библиотеку.Среди фотографий она наткнулась на знакомую линию плеч – тонкую, аккуратную, как у птицы. Это была она, маленькая Мира, стоящая на сцене с ксилофоном. Рядом, чуть наклонившись, – мужчина с густыми темными бровями, он держал в руках дирижёрскую палочку. Под фото было написано: «Учитель Антон Руссо и ученики музыкального кружка».
– Антон Руссо… – тихо сказала Соня. – Он же потом уехал в Петербург, стал композитором. Вы его помните?
– Я помню звук его голоса и его руки: их движение, – сказала Мира, сама удивляясь своей памяти. – Он всегда говорил: «Слушай – это важнее, чем играть».
Соня принесла папку со статьями. В одной из них было интервью Руссо, с фотографией, где он уже взрослый, известный, в чёрном свитере, и сквозь его взгляд пробивалась всё та же тёплая ясность. Он говорил о музыкальном фестивале в их городке, о том, как провозил неразрешённые инструменты, о том, что истинная музыка живёт в простоте. Там же было написано, что он собирается приехать в город к юбилею школы в конце недели, и что в Дом культуры привезут его новое сочинение – «Письмо для одной комнаты».