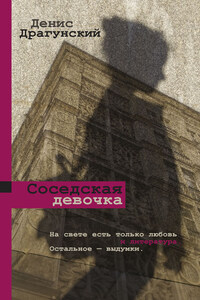Сгущался туман.
Это еще смешнее, чем «мороз крепчал».
Однако туман сгущался с каждой секундой.
Туман был желтый, золотистый, апельсиновый.
Из тумана ко мне потянулись руки. Мужские и женские руки, пальцы в тяжелых перстнях, – и я услышал тихое лопотание: «Иди к нам, иди к нам!»
Апельсиновый туман стал сгущаться, темнеть – но вдруг я увидел сам себя как будто откуда-то сверху. Нет, не совсем сверху, не из-под потолка, но всё равно сверху. Как будто бы я сижу на больничной каталке и смотрю на свои ноги. Но я же не сидел, я лежал пластом – и вдруг будто бы сверху я увидел, как к моим бокам приставляют бежевые утюжки электрошока, и доктор командует: «Отойти! Разряд!», и мое тело подпрыгивает, как лягушка, которую мучают электричеством на уроке биологии. Было больно, и я чувствовал эту боль, хотя смотрел как будто со стороны.
– Пошел, – сказал доктор. – Пошел, пошел.
Я открыл глаза, и он закричал:
– На меня смотреть! На меня смотреть! Глаза не уводить! На меня смотреть внимательно! На мою руку смотреть! – он пощелкал пальцами. – Глаза не уводить! Кто я? Кто я?
– Врач, – сказал я.
– Как меня зовут?
Я вспомнил и сказал:
– Янис Ансабергс.
– Labi, – сказал он.
То есть по-латышски – «хорошо».
Конечно, хорошо. Просто отлично.
Уже на следующий день я стоял на балконе и смотрел вниз. Ко входу в больницу подъехал полицейский микроавтобус. Вышел водитель в форме, с пистолетом на поясе. Еще один офицер в форме, тоже с пистолетом. Открыли заднюю дверцу – там еще одна решетка. Отперли замок этой решетки. Вышел парень, голый до пояса, очень худой и мускулистый, весь в татуировках, но без наручников. Полицейские повели его в приемный покой.
Не дождался, как они его поведут обратно.
Потому что в соседней палате солидные деды, русские и латыши, вылезли на свой балкон, вытащили стулья, расселись и по-русски разговаривают о политике. От Андропова до Медведева и Путина, о нефти, об Америке, обо всём на свете. Всё на свете знают, всё на свете понимают. Ужас! Закрыл балконную дверь.
Через час выглянул – машины уже нет.
Гуляю по больничному саду.
Иду по аллее.
Девушка говорит по мобильному по-латышски, быстро и гневно. Всё время вставляя одно-единственное русское слово, обозначающее женщину с невысоким моральным обликом: «Ко? Kad? Blad! Es negribu, blad! Cik nāk? Blad! Man nav laika, blad!»
Я в Риге.
А Рига у меня внутри.
Внутри – то есть в груди, в самом прямом смысле слова. Под левой ключицей. Я тычу себя в грудь пальцем – вот, вот здесь. Люди не знают анатомии и думают, что это и есть сердце. Ну в общем-то они правы.
Рига вшита в меня, она совсем маленькая, размером со старинную серебряную монету. Можно потрогать пальцами, убедиться – вот она, всегда со мной.
Я ее очень люблю. Трогаю пальцами, вспоминаю и улыбаюсь.
Странное дело – мне совершенно безразлично, что о ней говорят. Всякое говорят. Но разные огорчительные сведения я пропускаю мимо ушей. И отвечаю: «Может быть, может быть. А может быть, и нет. Но это неважно. Главное – она красивая, она хорошая, она мне нравится уже давно».
Так бывает, когда любишь далеких женщин.
Сначала мне казалось, что я люблю ее безответно. Не в каком-то трагическом смысле, что вот я добиваюсь ее любви, а она меня отвергает. Она просто не знает обо мне. Может быть, надо было объясниться, и всё стало бы хорошо?
Так у меня бывало много раз. Не сказал. Не понял. Не спросил. И всё.
Но теперь уж поздно.
Остается только вспоминать.