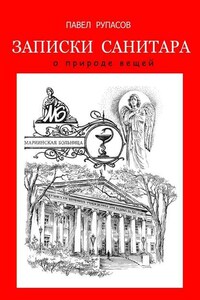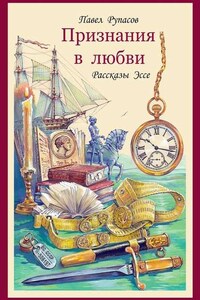Городок со времен первых страстей библейских назывался Себастополис. И с тех пор здесь живут старенькие родители всех, кто вынужден был покинуть греческий рай ради российской северной родины праотцев. Я регулярно наведываюсь сюда, чтобы увидеть, что в существующем порядке вещей ничего не изменилось, есть еще вкус к жизни и страданиям… и не тронута земля эта лишними признаками цивилизации.
Я жду троллейбуса на остановке «Омега». «Омега» – это не последняя остановка в жизни человека, это пляж. Ничего против этого не имея, я еду из госпиталя, где моему папе сделали операцию. Грыжесечение это не Бог весть как сложно, но в 75 лет… К тому же только папа знает, сколько нужно было перенести тяжестей в этом райском месте, чтобы Было так, Как оно было…
У входа в магазин собака – псевдокормящая мать – просит еду, пользуясь неподражаемо-печальным взглядом сказочно-глубоких карих глаз и своей ложной беременностью. Я ей немного не верю, потому что три месяца назад, когда я был здесь по тем же причинам и с той же целью, собака была та же и предлог у нее был тот же. Я ей немного не верю, хотя взгляд у нее очень искренний и вымечек у нее столько же, сколько у римской волчицы… На лавочке со мной рядом сидят временем вскормленные местные пьяные Ромул и Рем, обсуждая вопросы строительства нового возрождения новой империи.
Я еду в троллейбусе. Спереди, сверху и сбоку меня ровные, плоские девичьи животы с бедрами, с висюльками в пупке и без. Жизнь заставила самых молодых рисковать благополучием урогенитальной сферы. …Есть мнение, что трусики «внитку» тоже очень неудобно было носить, пока не выработалась видовая устойчивость к этому новому фактору естественного отбора. Теперь всем удобно, о чем дружно свидетельствует весь пляж имени последней греческой буквы.
Я думаю, хорошо, что это у меня началось – я вдруг начал видеть животы и пупы. Видимо, не только я один ослеп и оглох – все человечество смотрит куда-то внутрь себя, где, наверное, темно. Видимо, все человечество так серьезно чем-то занято, что женщины стали вынуждены подносить сокровенные части своего тела столь близко к глазам мужчин. Раньше мужчинам хватало, чтобы дамский каблучок лишь на мгновение выглядывал из-под края платья, когда модница садилась в карету… на что специально собирались посмотреть мужчины неробкого десятка.
Я тоже был чем-то серьезно занят, что женщины вынуждены были мне подносить… целый год был чем-то занят, так что не видел цветов жизни… был ложнобеременен (это трудное слово) и псевдокормящ – трудное дело…
Но сроки вышли, жизнь прошла какое-то трудное место, потом прошла весна, потом зацвели ирисы, которые оказались великолепны. Что-то остановилось во мне, перестало отделяться от агрессивного внешнего мира пуленепробиваемым жилетом из моей трусости. Я ненадолго приоткрыл бронированные люки обоих глаз и увидел голубые ирисы…
Кулечки из папиросной бумаги, из них поднимаются великолепными султанами три фонтана тонкой мерцающей материи, недоступной пока модным кутюрье. Фонтаны струятся тремя вуалями с бахромой, тремя сросшимися львиными зевами, в каждом из которых язычок, поросший желтым пушком, плавно уходит внутрь зева, приглашая насекомое мужского пола окунуться туда, потерять там голову и пропасть в самом сладком месте Божьего Рая – так это великолепно, эротично и солнечно сотворено. Аромат оттуда слабый-слабый, но такой тяжелый и сладкий – точно такой витал в изысканных богатых салонах XVIII века во время балов и маскарадов.