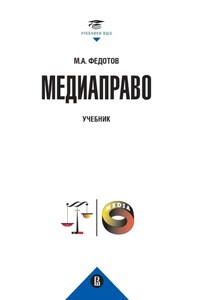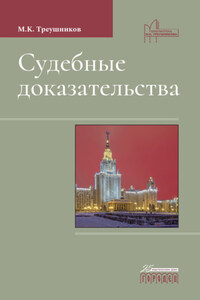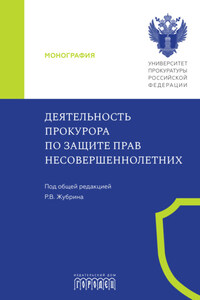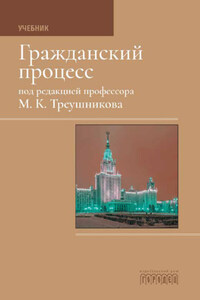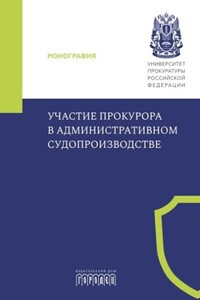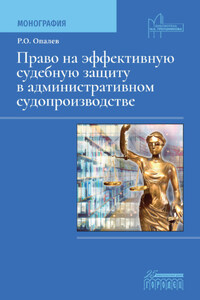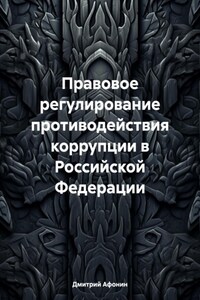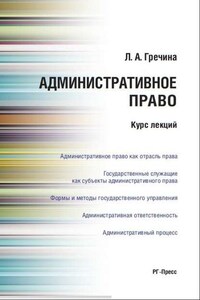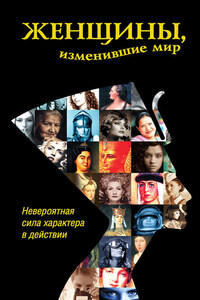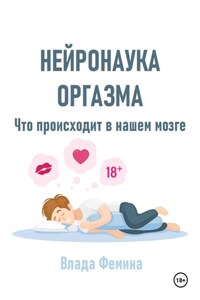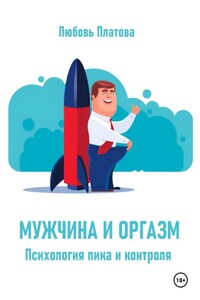Рецензенты:
доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики, заведующий кафедрой компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН Ю. М. Батурин;
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского С. А. Куликова;
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики редактирования факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, руководитель программы профессиональной переподготовки «Редактор текстов для медиа» И. А. Панкеев
Если верить Иммануилу Канту, то право – это «самое святое, что у Бога есть на земле»[1]. Не знаю, как вы, дорогой читатель, а я верю великому философу. Чтобы сохранить и приумножить эту величайшую ценность, важно не испортить ее ни зашоренным правопониманием, ни приблизительным правотворчеством, ни произвольным или выборочным правоприменением.
Медиаправо, или, иными словами, право массовых коммуникаций, конечно, еще слишком молодо, особенно по сравнению, например, с цивилистикой, чтобы обрести устоявшееся правопонимание, гармоничное во всех отношениях законодательство и идеальную правоприменительную практику. Тем актуальнее становятся, с учетом нормативистского и социологического понимания права, прояснение наиболее сложных теоретических конструкций в этой сравнительно новой комплексной отрасли (подотрасли) права, поиск оптимальных моделей правового регулирования, выявление противоречий и лакун в правоприменении.
Именно поэтому, рассуждая о медиаправе как о праве массовых коммуникаций, я буду стараться в каждой из рассматриваемых тем – конечно, только там, где это возможно и уместно, – выделять доктринальную, нормативную и правоприменительную части. В первой части – «Доктрина» – преимущественно излагаются научные представления о соответствующем предмете с рассмотрением проблем, касающихся законодательства и правоприменительной практики. Вторая часть – «Законодательство» – посвящена изложению действующего позитивного права. Третья часть – «Правоприменение» – знакомит читателя с правоприменительной практикой. Разумеется, такое деление в достаточной степени условно.
К сожалению, доктринальная база современного российского медиаправа весьма скромна. За три десятилетия ее существования опубликовано всего несколько монографий и постатейных комментариев к Закону Российской Федерации «О средствах массовой информации», а также некоторое количество научных статей, чему в немалой степени способствовали «декабрины» – ежегодные декабрьские научно-практические конференции по медиаправу, приуроченные к дате принятия этого закона в 1991 г.[2] Неоценимый вклад в формирование науки медиаправа внесли теоретики медиакоммуникаций – авторы многочисленных научных трудов и прекрасных учебников по правовым основам журналистики[3].
Настоящая книга по медиаправу, в которой монографическое исследование сочетается с реализацией задач, характерных для университетской учебной литературы, призвана внести вклад как в развитие доктрины, в осмысление постоянно меняющегося нормативного ландшафта и правоприменения, так и в подготовку нового поколения медиаюристов высшей квалификации. При этом следует учесть, что учебная дисциплина, посвященная правовому регулированию массовых коммуникаций, уже не первый год преподается в российских университетах, включена в федеральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Журналистика», а в Уральском государственном юридическом университете им. В. Ф. Яковлева она выросла в самостоятельную магистерскую программу «Юрист в сфере телекоммуникаций и медиатехнологий»