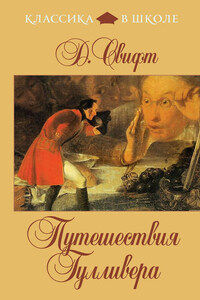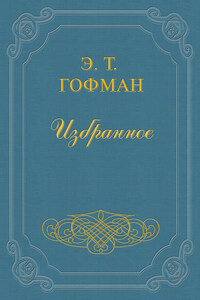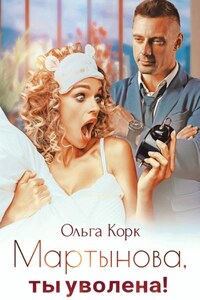Летним вечером, под шелест сада в открытых окнах, в гостиной обсуждали сточную трубу Муниципалитет обещал провести сюда воду, и хоть бы кто палец о палец ударил.
Миссис Хейнз, жена помещика, занятого хозяйством, дама с физиономией гусыни и глазками выпученными, будто ей явился домовой, вскричала с чувством:
– Ну и тема для разговора в такой вечер!
Все примолкли; и кашлянула корова; и дала даме повод заметить – как странно, в детстве она коров ну нисколечко не боялась, исключительно лошадей. Да, но ведь когда она была совершенная кроха, громадный ломовик прогрохотал прямо у самой колясочки. Их род, сообщила она старику в кресле, жил близ Лискерда веками. Памятники на кладбище вам это докажут.
Во тьме хохотнула птица.
– Соловей? – встрепенулась миссис Хейнз. Но нет, соловьи так далеко на север не залетают. Это дневная какая-то птица, вспомнив роскошества дня, червяков, улиток и зернышки, хохотнула во сне.
Старик в кресле – мистер Оливер, из Индийской государственной службы, в отставке, – сказал, что место для сточной трубы выбрано, если он верно расслышал, на Римской дороге. С аэроплана, он сказал, еще явственно видны шрамы, оставленные бриттами; римлянами; елизаветинской усадьбой; и плугом, которым бороздили холм, чтобы растить пшеницу во время наполеоновских войн.
– Но вы же не можете помнить… – не утерпела миссис Хейнз. О, разумеется. Но зато он помнит – и уже он взялся ей рассказывать, что именно, но послышался шорох за дверью, и Айза, жена его сына, вошла – волосы косами, капотик в линялых павлинах. Вошла, как лебедь плывет по воде; вдруг запнулась, остановилась; не ожидала увидеть людей; и что свет горит. С сыночком сидела, она извинилась, что-то он куксится. И о чем тут у них разговор?
– Да вот, сточную трубу обсуждаем, – сказал мистер Оливер.
– Ну и тема для разговора в такой вечер! – вскричала снова миссис Хейнз.
А он — что он думает про сточную трубу; и вообще? – гадала Айза, кивая помещику, Руперту Хейнзу. Они виделись как-то на благотворительном базаре; на теннисе. Он подал ей чашку, подал ракетку – и все. Но в этом усталом лице ей чудилась загадка; а в молчании – страстность. И на теннисе чудилась, и на благотворительном базаре. Теперь, в третий раз, опять почудилась, и, пожалуй, еще настойчивей.
– Да, помню, – старик перебил, – моя мама… – О своей маме он помнил, что она была статная; держала чайницу под замком; но зато в этой самой комнате вручила ему томик Байрона. Да, тому уж больше шестидесяти лет, он им сообщил, мама ему вручила Байрона вот в этой самой комнате. Он помолчал.
– «Она идет в красе своей…» – продекламировал он[1].
И опять:
– «Не бродить нам вечер целый под луной вдвоем[2]».
Айза подняла голову. От слов разошлись круги, два безупречных круга, и они подхватили их, ее с Хейнзом, и понесли, как двух лебедей вдоль потока. Но его белоснежная грудь была в грязных разводах ряски; а ее перепончатые лапки вязли, их затягивал муж, биржевой маклер. И она качнулась на своем табурете, и черные косы повисли, и тело стало как валик в этом линялом капоте.
Миссис Хейнз учуяла нечто, их замкнувшее кругом, ее выкинувшее вон. Она ждала, как ждут, когда же отзвучит орган, чтобы уйти из церкви, В машине, по дороге домой, на розовую виллу в полях, уж она с этим покончит, как дрозд отклевывает бабочке крылья. Десять секунд переждав, поднялась; постояла; потом – будто замер орган – протянула руку миссис Джайлз Оливер.
Но Айза, хоть ей полагалось вскочить в ту минуту, как поднялась миссис Хейнз, продолжала сидеть. Миссис Хейнз на нее вылупила гусиные глазки:
– Миссис Джайлз Оливер, сделайте такую божескую милость, заметьте мое существование…
И пришлось-таки ей встать с табурета в этом линялом капоте, с болтающимися косами.