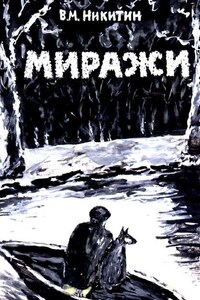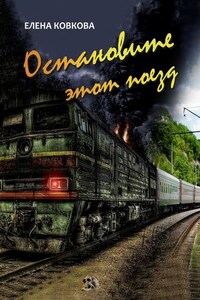Это было скорее не озеро, а старый заброшенный пруд, наверное, ещё со времён Ермака. По всей вероятности, казаки перегородили небольшую речушку, которая в летнее время наверняка пересыхала, и соорудили своеобразную запруду, устроив для себя небольшое водохранилище, откуда черпали воду для своих нужд: готовили пищу, поили лошадей, а когда уходили в поход, заливали тлевшие кострища, ещё недавно
пылающие в холодной уральской тайге яркими огненными языками. Огонь явно веселил лихие казачьи души. Как- никак, а в их быту многое было и от язычества: поклонение огню, воде, другие ритуалы, от которых они так до конца и не смогли отвыкнуть.
А на самом высоком месте казаки соорудили вышку, эдакий наблюдательный пункт. Что самое интересное, чем старик невольно восхищался, время, словно не коснулось её. Она горделиво стояла, чуть ли не упираясь в небо. Правда, ступени малость прогнили, и старик не решался забраться на самый верх, хотя многие деревья обогнали вышку в росте, и теперь вряд ли можно было бы углядеть басурман, которых видимо, казаки и опасались.
Приглядел однажды старик, охотясь, глухое местечко в уральской тайге. Вдобавок обнаружил тогда небольшую сторожку. Впрочем, она, конечно же, не была времён грозненской эпохи. Видно, сложил её некогда из брёвнушек какой-нибудь золотоискатель. Ну, а затем охотники на неё набрели, ночевали в ней, если заставала непогода.
Старик подправил лесную избушку, сложил небольшую русскую печку, и иногда, особенно ранней зимой, когда уральские холода не были ещё по-настоящему свирепы, оставался здесь и дневать, и ночевать порой на целую неделю, а то и больше, поскольку торопиться ему в свой посёлок было не к кому.
Он давно уже жил бобылём. С тех самых пор, как расстался со своей половиной, оставив ей в Ирбите свою «двушку», некогда выкупленную в кооперативе ещё в советские времена. Сам же поселился в небольшом посёлке, затерявшимся между Ирбитом – старинном уральском городке – и Тавдой. Устроился тогда он в леспромхоз, где выделили ему небольшую комнатёнку в деревянном бараке. Там жили в основном приезжие вахтенные работяги – плотогоны.
А старик вовсе не был уж таким пожилым, ежели судить не по годам – в ту пору ему было чуть за шестьдесят, а по его физическому состоянию. Был он крепок телом, мог запросто отмахать пешком и двадцать, и тридцать, по-старому, вёрст. А зимой, если вставал на лыжи, и полста километров преодолевал.
Конечно, с годами удаль поубавилась, но сказалась закалка былой военной службы на одной из южных границ тогда ещё могучей советской державы.
– Мабуть, тебе бабу сноровистую сподобить, – шутковали заезжие работяги. – Силища, вон в тебе какая. Только в плотогоны, нам такие крепкие мужики нужны.
Харитон не придавал этим шуткам-прибауткам никакого значения. Мысли его витали в другом направлении. Он хотел найти место гибели своего друга детства Алексея, который, как и Харитон, был богатырского телосложения, и не всяк его мог одолеть. А тело его, среди каких-то принадлежавших ему вещей, так и не было обнаружено.
Здешние ермаковские места, конечно, были глухими, но это как раз старику было по душе. Он и добрался сюда, потому что считал – нашёл, наконец, то проклятое место, где, возможно, погиб его Лёшка, с которым они вместе росли в Ирбите. А потом на время их пути разошлись. Харитона призвали в армию и отправили служить на границу, а Алексей выучился на геолога.
К этому озерку, некогда обнаруженному им ещё до гибели друга старик отправился не сразу. Загадочная гибель друга, разного рода домыслы и противоречивые рассказы о том, как он исчез, не давали ему покоя. И он не предполагал, что судьба его надолго свяжет с этими местами