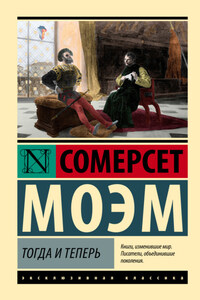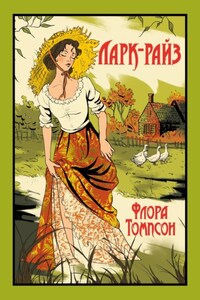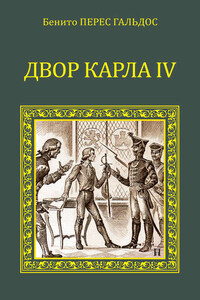– Мамочка, ну пожалуйста, не уходи! Я хочу нарисовать твой портрет.
– Что! Еще один?! Но, Анри, ты же вчера уже рисовал меня. – Адель, графиня де Тулуз-Лотрек опустила вышивку на колени, с улыбкой глядя на маленького мальчика, сидящего на траве у ее ног. – Ведь я ничуть не изменилась со вчерашнего дня, не так ли? У меня все тот же нос, рот, подбородок и…
Ее взгляд скользнул по растрепанным черным кудряшкам. Карие глаза, слишком большие и серьезные для детского личика, смотрели умоляюще, костюмчик-матроска был изрядно измят, а карандаш застыл над раскрытой страницей альбома для рисования. Рири, милый Рири! Самый близкий, самый дорогой человечек. Он был для нее всем, и ради него она готова безмолвно сносить любые невзгоды и разочарования.
– А может, лучше ты нарисуешь Рыжего? – предложила она.
– Я уже его рисовал. Целых два раза. – Мальчик мельком взглянул на рыжего сеттера, который дремал под столом, положив морду на лапы. – К тому же он спит, а когда он спит, то становится совсем безжизненным. Нет уж, лучше я нарисую тебя. Ты красивее.
Возразить было решительно нечего, так что ей пришлось повиноваться.
– Что ж, ладно. Но только пять минут, и ни секундой больше. – Грациозным жестом она сняла широкополую шляпу, открывая темно-каштановые волосы, уложенные в аккуратную прическу, – гладко расчесанные на прямой пробор и подхваченные шпильками пряди изящно спускались по обеим сторонам головы, словно сложенные птичьи крылья. – А то нам уже пора выезжать на прогулку. Жозеф будет здесь с минуты на минуту. Ну так куда мы сегодня поедем?
Он не ответил. Карандаш уже стремительно скользил по бумаге.
Они были одни в тишине залитого ослепительным солнечным светом сентябрьского дня осени 1872 года, среди старых привычных вещей, когда ничто не мешает наслаждаться одиночеством и ощущением безмятежного счастья. Вокруг зеленела трава просторной лужайки; ласково пригревало солнце, птицы весело перекликались в ветвях деревьев, то и дело перепархивая с ветки на ветку и стремительно отправляясь куда-то по неотложным птичьим делам. Сквозь желтеющую листву просвечивали очертания средневекового замка с островерхими башенками, зубчатыми стенами и узкими овальными окнами.
Незадолго до этого Старый Тома, кажущийся непомерно толстым и важным в нарядной темно-синей ливрее, убрал со стола чайный поднос и, напустив на себя высокомерно-презрительный вид, больше приличествующий мажордому королевского двора, неспешно удалился. По пятам следовал Доминик, кажущийся несмышленым мальчишкой на его фоне, – ему было пятьдесят восемь лет, и лишь двенадцать из них он провел в услужении. Затем тетушка Армандин – на самом деле тетушкой она никому не доводилась, эта чья-то дальняя родственница приехала в замок семь лет назад «погостить на недельку» – отложила газету, шумно вздохнула и чинно удалилась, чтобы «написать несколько писем», что означало, что она собирается вздремнуть перед ужином.
Вечером кучер Жозеф, как обычно, объявит, что экипаж госпожи графини готов к выезду. Как обычно, старенькие лакеи сервируют по всем правилам стол для скромного ужина в огромной комнате, где всегда царят прохлада и таинственный полумрак, а с развешанных по стенам потемневших от времени портретов сурово глядят предки в доспехах. После десерта юный граф, как обычно, устало поднимется по ступеням крутой каменной лестницы в свою спальню, а следом за ним войдет мать. И как обычно, она присядет на краешек его кровати и расскажет ему об Иисусе, о том, каким хорошим и послушным мальчиком Он был. И о Жанне д’Арк, о Первом крестовом походе и о том, как его пра-пра-пра-пра-пра-прадедушка Раймонд IV, граф де Тулуз, возглавил войско рыцарей-христиан и привел их в Иерусалим, чтобы освободить Гроб Господень из рук неверных. Потом поцелуй, последнее прикосновение прохладной руки ко лбу. И чуть слышное «Спокойной ночи, мамочка». Анри почувствует, как она заботливо поправляет сбившееся одеяло. Еще один нежный взгляд, и она скроется за дверью, ведущей в соседнюю комнату.