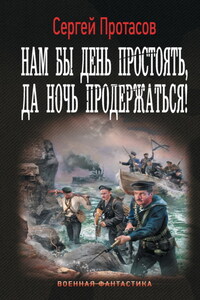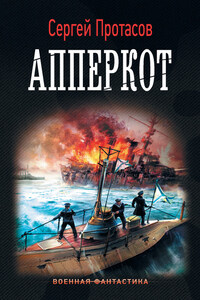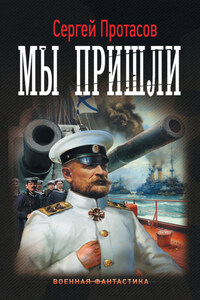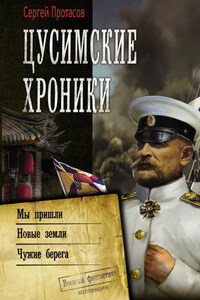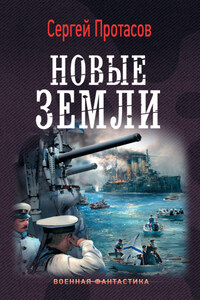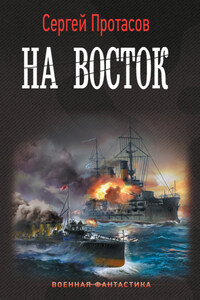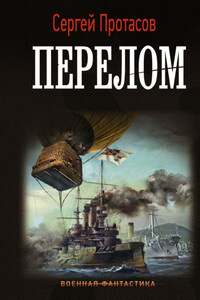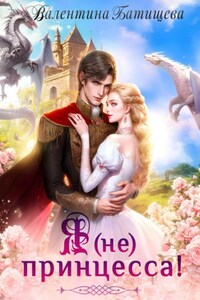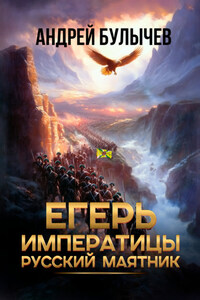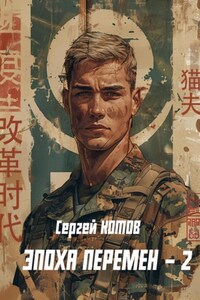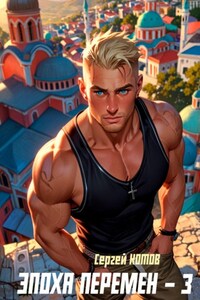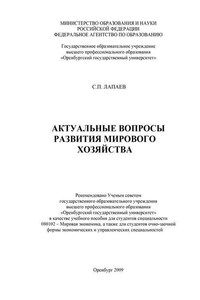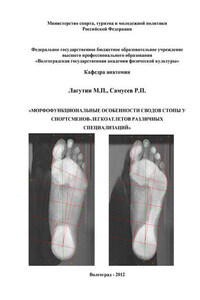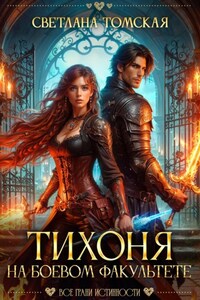Лейтенанту Белавенецу довольно долго не удавалось перевестись со своего разоружаемого броненосца береговой обороны «Адмирал Сенявин» на любой другой воюющий корабль флота. Должность старшего артиллерийского офицера, и вообще единственного артиллерийского офицера на корабле, оставшегося в строю после Сасебского дела, не позволяла, пока не закончили дефектовку и демонтаж артиллерии. Лишь перед самым «Великим походом» он получил, наконец, назначение на его собрата «Ушакова».
Потом было относительно спокойное месячное плавание, начавшееся в военном, уставшем, осеннем Владивостоке и громогласно финишировавшее у берегов Японии. При этом попутно посетили продуваемые океанскими ветрами, только что отбитые и спешно обживаемые Курилы и райский уголок совсем рядом с экватором на островах Бонин. Кстати говоря, тоже японских, временно и тихо занятых русским флотом.
Но больше всего из этого «турне» ему запомнились первые горячие дни в «гостях» у самураев. А в них тот момент, когда он со своей сводной десантной ротой поднялся на крутолобую сопку возле небольшой крестьянской деревушки Токатори. Там высадившиеся накануне войска и моряки еще вчера успели развернуть сигнальный пост. Хоть их тогда и оказалось на японском берегу гораздо меньше запланированного, продвинулись они дальше, чем ожидалось. Более того, даже смогли отстоять часть занятых ключевых позиций в течение всего дня, а потом и самой страшной ночи с 24 на 25 ноября. Да еще и продержались до подхода второй волны, которую из-за штормовой погоды удалось доставить на берег уже только на следующий день.
Когда отряд Белавенеца добрался до места, как раз началась новая японская атака. Пост, расположенный на самой восточной из небольших гор, образующих срединный хребет полуострова Миура, и господствующий над всей округой, уже почти пал. Только внезапное появление моряков позволило деблокировать его. К тому моменту из всего персонала и пехоты, оборонявшейся на горе, в живых оставалось 12 человек. Из них 11 тяжелораненых в бессознательном состоянии. Укрепления и укрытия, сооруженные из валунов и остатков деревьев, переломанных взрывами снарядов, были сплошь изъедены пулями.
Вокруг небольшой расщелины на крохотной площадке под самой вершиной находилась последняя оборонительная позиция поста. Ниже по склонам, среди искромсанных тычин, оставшихся от деревьев и кустов, всюду лежали убитые. Большей частью в форме Токийской охранной дивизии или полицейского полка. Сама площадка плотно усеяна стреляными гильзами, а в дальнем конце виднелись восемь сложенных из камней холмиков с крестами из сучьев, смотанных обрывками телеграфного провода.
В глубине расщелины, как позже выяснилось, лежал телефон, сломанный гелиограф и даже радио (правда, не полностью укомплектованное). Там же находились и раненые, в том числе начальник поста мичман Эймонт.
У входа стоял человек в нашей пехотной форме, разодранной до пояса, сжимавший в руках трофейную «арисаку». Чуть в стороне лежало больше десятка убитых японцев и «мосинка» с расщепленным ложем. Еще две «арисаки», тоже совсем непригодных, были брошены неподалеку. У одной обломился приклад, другая с перекошенным затвором и вся испачкана кровью. Боец тоже в крови. За его спиной, уже во входе в укрытие, виднелись еще японские винтовки и патронные подсумки, просто сваленные в кучу.
Он стоял, широко расставив ноги, и молчал, буравя пришедших тяжелым, мутным взглядом. Увидев моряков, тряхнул головой, словно прогоняя морок, быстро смахнул пот с лица, проморгался, торопливо огляделся еще раз, а потом осел всем телом, со стоном выдавив воздух из легких.