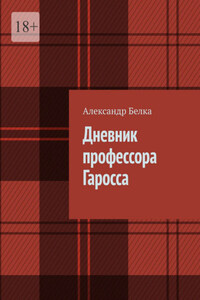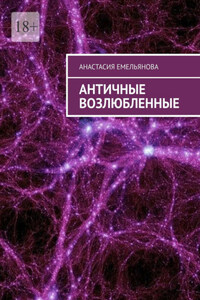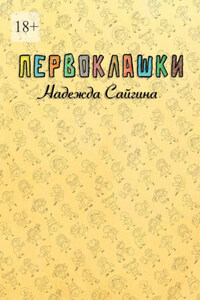Нарика и Серая пыль
Когда придет время перемен, спроси себя, кто ты. Реальны ли твои страхи и только ли избранным дано вершить судьбу мира? Две сотни лет на землях людей обитает Серая пыль. Живущие в ней Тени и Твари приносят болезни и грозят уничтожением всему человечеству. Чтобы спасти родных, Нарика и ее друзья отправляются в опасное путешествие к Хрустальной горе, населенной волшебными Душами, сулящими надежду на избавление. Но смогут ли они победить? Ведь зло, царящее на планете, гораздо сильнее.
| Жанры: | Книги о приключениях, Русское фэнтези, Книги для детей |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | Неизвестен |
Читать онлайн Нарика и Серая пыль
Книга заблокирована.
Вам будет интересно