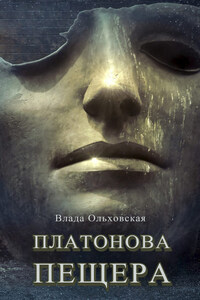Нужно было ее остановить.
Намеки не помогли. По-хорошему она не понимала. Требовались жесткие меры. Нужны были драма и однозначность – и понятное всем объяснение.
Понятное – вот что главное. Чтобы не осталось места вопросам и сомнениям. Чтобы полиция, журналисты и эта любопытная дурочка – чтобы все они ясно поняли, что он имеет в виду и насколько это важно.
Он задумчиво посмотрел на желтый блокнот и написал:
Немедленно сворачивайте свой гнусный проект. То, что вы делаете, – чудовищно. Ваш проект воспевает худших людей на земле. Вы насмехаетесь над моей жаждой справедливости, восхваляя преступников, которых я уничтожил. Вы превозносите худших из худших. Этому не бывать. Я этого не потерплю. Десять лет я жил в мире, зная, что достиг цели, зная, что оставил свое послание миру и добился справедливости. Не вынуждайте меня снова браться за оружие. Расплата будет ужасна.
Он перечитал написанное. Медленно покачал головой. Не тот тон. Вырвал листок и сунул его в шредер рядом со стулом. Потом начал заново:
Прекратите это занятие. Прекратите немедленно, бросьте все. Иначе снова прольется кровь, еще больше, чем прежде. Берегитесь! Не нарушайте мой покой.
Уже лучше. Но все равно не то.
Нужно добить это письмо. Чтобы стало совсем четко. Недвусмысленно. Яснее ясного.
А времени в обрез.
Французские двери были распахнуты.
Стоя у кухонного стола, Дэйв Гурни хорошо видел окрестности: на полях снег уже сошел, лишь в лесу, в самых тенистых его уголках, упрямыми ледниками виднелись последние белые пятна.
В просторную кухню фермерского дома проникали терпкие весенние запахи: свежей земли, неубранного прошлогоднего сена. Колдовские запахи – когда-то от них захватывало дух. Но теперь они мало его занимали. Ну приятно пахнет. И что?
– Ты бы вышел во двор, – предложила Мадлен, ополаскивая миску из-под хлопьев. – Смотри, какое солнце. Красота.
– Вижу, – ответил он, не трогаясь с места.
– Выпить кофе можно и на террасе, там есть кресла, – продолжала она, поставив миску в сушилку. – Тебе полезно солнце.
– Хм, – он неопределенно кивнул и отхлебнул из кружки. – Это тот же кофе, что мы пили раньше?
– А чем он тебе не нравится?
– Я не говорил, что он мне не нравится.
– Да, это тот же кофе.
Он вздохнул.
– Я, наверно, простудился. Уже пару дней все безвкусное.
Она оперлась о раковину и обернулась к нему.
– Тебе надо чаще выходить. И что-нибудь делать.
– Да-да.
– Я серьезно. Нельзя сидеть сиднем и смотреть в одну точку. Так и заболеть недолго. Вот тебе и нездоровится. Ты, кстати, перезвонил Конни Кларк?
– Перезвоню.
– Когда?
– Как настроение будет.
Впрочем, не похоже было, что в обозримом будущем настроение появится. С ним не складывалось в последнее время, вот уже полгода. После странного дела об убийстве Джиллиан Перри, из-за которого он получил несколько ранений, Гурни словно полностью отстранился от обычной жизни, от планов и повседневной рутины, от людей и звонков, от всех обязанностей. И уже казалось, что предел мечтаний – это календарь без единой пометки, ни тебе дел, ни встреч. Он стал считать свою отстраненность свободой.
Вместе с тем ему хватало ума признать, что это ненормально и что в такой свободе нет покоя. Он чувствовал не безмятежность, а враждебность.
Отчасти Гурни даже понимал эту странную энтропию, понимал, что вывело из строя его жизненный механизм и довело его до изоляции. По крайней мере, он смог бы составить список причин своего нынешнего состояния. Начал бы со странного звона в ушах, преследовавшего его после комы. Вероятно, всему виной были события, произошедшие двумя неделями раньше, когда в маленькой комнате в него трижды выстрелили, почти в упор.