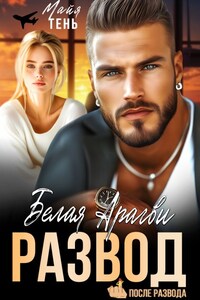Прожектора и софиты ярко горят,
позволяя выдернуть из сценической реальности то, что кажется
важным, нужным. Никто не хочет распыляться на детали. Сегодня
“важной” для софитов являюсь я: именно меня видят почти полторы
тысячи зрителей, которых вмещает концертный зал. Они видят красивую
молодую девушку, которая за концертный вечер меняет семь платьев,
которая три часа подряд ублажает их слуховые каналы тем, что они
хотят слышать – красивыми мелодиями, лирическими песнями о
любви.
Они приходят сюда, усталые от измен,
ничего не стоящих обещаний, бесконечных будней, серого даже в
снежный день города, чтобы окунуться в праздник любви. Правда, есть
и другая часть, которая приходит посмотреть на Мирона Вознесенского
– моего мужа. Приходит, чтобы послать ему поцелуй, подарить
игрушку, передать письмо и испепелить меня взглядом.
Моя миссия – показать всем им, что
мир хорош, в нем есть любовь, любовь, которую мне дарит мой дорогой
Мирон. За эту ложь я получаю миллионные гонорары, интервью в
элитных изданиях, завистливые вздохи. Немало, согласитесь? Поэтому
продолжаю отрабатывать гонорар:
–А теперь, мои самые любимые
зрители, я хочу подарить вам новую песню, и посвящаю ее человеку,
которого люблю больше всех на свете, больше жизни – моему мужу
Мирону – Вознесенскому Мирону Станислововичу.
Шквал аплодисментов, который не
затихает еще добрых три минуты и зал наполняется невероятно нежной
музыкой. Искусственный снег порхает, кружится на сцене и, прежде
чем я успеваю подхватить мелодию и начать петь, на сцену выходит
Мирон и накидывает мне на плечи нечто вроде меховой накидки. Тонкая
имитация заботы. Зрительниц это восхищает. Новый, еще более мощный
шквал аплодисментов оглушает зал. Я вынуждена пропустить вступление
и жду, когда мелодия заиграет сначала.
Зал в восторге от своих же
аплодисментов, а камера ловит мою нежно-скромную улыбку. Интересно,
кто-нибудь думает о том, что все это предсказано, каждый жест
отрепетирован до мелочей? Время выверено по секундам: когда
накинуть манто на плечи, когда закончатся эти хлопанья ладони об
ладонь – Мирону зрительницы обычно аплодируют больше чем мне, –
когда нужно повторно включить вступительную часть мелодии – здесь
нет ничего спонтанного. Наконец, зал успокаивается и я слышу свой
голос, который теперь принадлежит не мне, а представляет одно целое
с микрофоном, залом, атмосферой:
Дрожат ресницы, я распахну
глаза,
Не плачу, не плачу, но катится
слеза.
Не больно, не больно все начинать с
нуля,
Не страшно, не страшно, когда ты у
руля.
Дыхание сбито от счастья, от
счастья,
И все изменилось у нас в
одночасье.
Лечу вниз с горы, лечу бесконтрольно
–
Ты ждешь, потому – не страшно, не
больно.
Снова взрыв аплодисментов. Снова
софиты ярко слепят глаза, помогая зрителям увидеть Мирона,
заботливо снимающего с меня накидку. Искусственный снег уже давно
разлетелся по полу. Мирон целует меня в губы – естественно, все
очень целомудренно, а потом посылает миллион воздушных поцелуев
залу, и помещение в сотый раз взрывается первобытно-дикими, как мне
кажется, полушаманскими звуками.
Софиты не показывают детали, мелочи.
Детали никому не интересны. Никто в зале не может догадаться, что
из всего, что я пела, правда только в двух словах – «дрожат
ресницы». Только дрожат они не от волнения, а от горечи и
непролитых слез. От того, что на сцене стоит искусственная Азалия
Вознесенская. От того, что настоящая Я никому неинтересна. От того,
что я – выбрала свободу, а угодила в ловушку. От того, что я перед
началом концерта очень просила своего мужа провести эту ночь
вдвоем, но так и не получила внятного ответа. Оттого, что отдав всю
себя залу и зрителям, домой буду возвращаться одна, даже дверь
открыть мне будет некому.