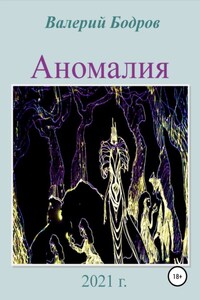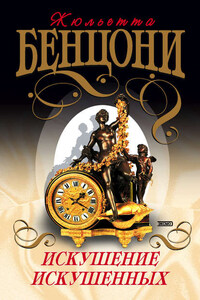Наша жизнь – сплошное притворство, лишь бы выкроить для себя маленькую толику удовольствия.
Она терла небо влажной тряпкой – мыла окно. И только когда, загородивши шум с улицы, мелькнул, до блеска начищенный кусок синевы и сверкнули отражённым солнцем окна дома напротив, повернулась ко мне. Ещё раз, для верности толкнула ладонью тяжёлую фрамугу и та встала в пазы со стеклянным лязгом.
«А-а, это ты…», – глаза узнали и приобрели мягкое выражение. Как именно оно достигается, и чем: глазными мышцами, прищуром век, увеличением диафрагмы зрачка или всё-таки неизвестной науке силой исходящей изнутри человека, через эти живые оконца?
«Уборщица заболела, а в грязи не могу, – она подошла, и, смахнув полотенцем, остатки неба с рук, протянула ключи, словно фокусник неожиданно вынув их из развёрнутой ладони, – Запри дверь». Я послушно задвинул в паз бесшумный замок, и ещё не успев повернуться, почувствовал её прохладные руки под просторной футболкой.
Всегда поражает назидательная покорность этой позы, два перезрелых апельсина взращенных в солярии удивлённо взирают на меня снизу, – незагорелая чайка вместо бровей. Я придерживаю их двумя руками с боков, чтобы они случайно не раскатились по кабинету, с грохотом опрокидывая мебель, и не переполошили работающий офис за стеной. Широкая спина из той же оранжевой кожуры уводит мощёную тропинку позвоночника и блудливые пупырышки под задранное платье. Дальше блестит покрытая капельками пота, конопатая холка в вырезе летнего крепдешина с пуговкой застенчивой застежки на полукруге. Рассыпанные в простоволосом беспорядке пряди, и её руки, зацепившиеся за другой края стола, между аккуратно раздвинутых письменных приборов, равномерно пружинят в локтях, возвращая ци-трусовые (от слова трусы) мне в пах.
«Алла Велиановна, вы здесь?» – дёрнулась ручка двери. Несколько секунд замершего дыхания «на пике Джомолунгмы» (так называла Алла оргазм) и ещё раз медленное проверочное нажатие дверной фурнитуры, бронзовая полоска ручки отпружинила на место и замерла, видимо с той стороны двери интерес к ней был потерян. Наше затаённое либидо выдохнуло наружу: смешки, щипки, шлепки.
Чуть позже: расслабленный на чёрной прохладной коже дивана с эндорфиннами в голове, смотрю на её довольное, уже не молодое, но ухоженное лицо, отражённое в овале зеркала – чешет голову. Собрала с иголок массажной щетины щепотку скошенных волос и посолила ими мусорную корзину.
Никак не могу уловить момент, когда она из смекалистой и желанной женщины превращается в грозного директора. Пышная бирюза платья села на место, узкий поясок перевязан, благодарная рука треплет мне шевелюру – Алла ещё прежняя.
«Как всегда – молодец, – говорит она, протягивая четверть коньяка в тяжёлом стеклянном стакане, и тут же, отпирая дверь, совершенно не стесняясь, орёт секретарю в приёмную, – Варя, бухгалтера ко мне!»
Бухгалтер-Наташа явилась на зов Аллы моментально, словно и ждала уже, и надеялась, и тихонько, как-то аккуратненько, присела на стул у самого входа в кабинет, примерно соединив чёрные капроновые коленки. Вся серенькая, ничего лишнего в одежде, только воротник ярко-белой блузки выправлен поверх пиджачка.
«Покажи фотографию», – (приказной тон) Алла проявилась уже в образе директора.
Бухгалтерша юркнула правой рукой в заранее приготовленный карман, но от видимого волнения, не смогла сразу её достать. Пришлось воспользоваться и левой, оторвав её от седушки стула, в которую она вцепилась до синевы в пальцах. Я заметил, как подрагивает её оттопыренный мизинец.
Алла подошла, приняла у неё фото и поднесла к моей физиономии: «Одно лицо! Мать честная, бывают же совпадения!» Я взял из её рук квадратик фотографического картона, вылил в себя остатки спиртного и уставился на изображение, там был я, только несколько моложе и в другой, не приспособленной для меня одежде (белая удушающая водолазка под фиолетом вельветового пиджака). «И, что? – Спросил я, ещё не понимая всей серьёзности грянувшего момента, – Ну, похож, ну уж прям не настолько!» «Настолько, насколько нужно и похож!» – Алла решительно вернулась в своё директорское кресло. Она всегда в него возвращалась, когда необходимо было донести до подчинённых нетерпящий возражений постулат. И я чувствовал себя её безголосым пажом, когда он там восседала, источая мудрое сияние, хотя и не числился в её штате. Многозначительно поцокала накладными красным ногтями по ещё не остывшему после давешней забавы пластику столешницы и начала говорить. И то, что я услышал, не сразу отложилось в моей голове.