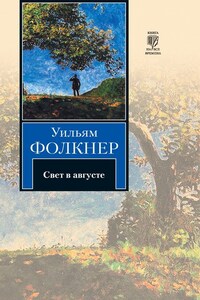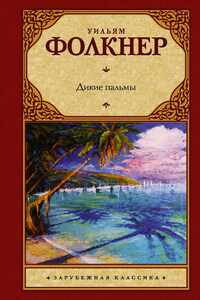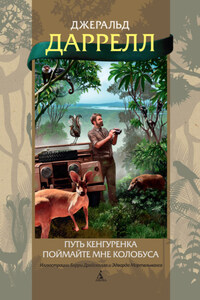1
В то лето у нас – у меня и Ринго – на пустырьке за коптильней было поле Виксбергской осады и битвы. Пусть Виксберг изображала у нас горсть щепок, подобранных у поленницы, а Реку обозначала рытвина, продолбленная краешком мотыги в плотно спекшейся земле, но макет этот наш (Река, город, окрестности) при всей своей малости давал ощутить непокорную, хоть и недвижную, мощь земных складок, пред которой слаба артиллерия, эфемерны трагичнейшие поражения и блистательнейшие победы, что отгрохотали – и нет их. Эта «живая карта» была для нас живою уже потому, что иссушенная земля пила воду, выпивала быстрей, чем мы успевали таскать от родника, так что подготовка поля к битве обращалась в затяжное и почти напрасное мученье; мы с дырявым ведром нескончаемо мотались высунув язык между родниковым навесом и нашей рытвинкой-рекой, ибо требовалось, объединив силы, одолеть сперва общего врага – время, чтобы затем уж разделиться и разыграть, неукоснительно исполнить обряд яростного и победоносного сражения, отгородясь им, точно занавесом и щитом, от роковой реальности, от факта. И в этот послеполуденный час нам казалось, что русло так и не напьется, не отсыреет даже – ведь и росы не выпадало вот уже недели три. Но наконец Река увлажнилась, по крайней мере, влажно потемнела, и можно теперь начинать. Мы собрались начать. Но подошел неожиданно Люш (Ринго ему племянник; Люш – сын старого Джоби). Возник откуда-то, явился незамеченный и встал под свирепо и тупо разящим солнцем с непокрытой головой, нескособоченно и твердо принагнув эту литую, круглую, как пушечное ядро, голову, – как если бы ядро наспех, неглубоко, но намертво посадили в бетон, – и глядит глазами, чуть покрасневшими с внутренних углов (как бывает у негров хмельных), на то, что Ринго и я наименовали Виксбергом. Тут я увидел у поленницы Филадельфию, жену Люша, – набрала на руку дров, еще не разогнулась и смотрит Люшу в спину.
– Это что тут? – спросил Люш.
– Виксберг, – ответил я.
Люш засмеялся. Стоял и негромко смеялся, глядя на щепки.
– Иди же сюда, Люш, – позвала Филадельфия. Что-то странное было и в ее голосе тоже – торопливость напряженная какая-то; возможно, испуг. – Хочешь ужинать, так дров поднеси мне.
Испуг ли то был или просто она торопилась? Люш не дал мне вдуматься, решить, потому что присел вдруг и – мы и шевельнуться не успели – повалил рукою щепки.
– Вот так с вашим Виксбергом сталось, – сказал он.
– Люш! – позвала Филадельфия. Но Люш, не подымаясь с корточек, глядел на меня с этим особым выражением на лице. Мне было всего двенадцать; я еще не знал, что это выражение торжества; я и слова такого не знал – торжество.
– И еще с одним городом то же, а вам и не известно, – сказал он. – С Коринтом.
– С Коринтом? – переспросил я. Филадельфия, бросив дрова, быстро шла к нам. – Он тоже в нашем штате, в Миссисипи. Недалеко. Я был там.
– А хотя б и далеко, – произнес Люш. В голосе его послышалась напевность; он сидел на корточках, подставив свирепому солнцу чугунный свой череп и плоский скат носа и уже не глядя на меня и Ринго; воспаленные глаза Люша словно повернулись зрачками назад, а к нам – тыльной, слепой стороной глазного яблока. – Хотя б и далеко. Потому что все равно уж на подходе.
– Кто на подходе? Куда на подходе?
– Спроси папу своего. Хозяина Джона.
– Он в Теннесси воюет. Как я его спрошу?
– В Теннесси он, думаешь? Незачем ему уже там быть.
Тут Филадельфия схватила Люша за руку.
– Замолчи, негр! – крикнула она, и в голосе ее все та же крайняя звучала напряженность. – Иди, дрова неси!