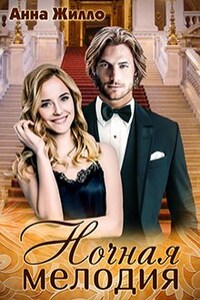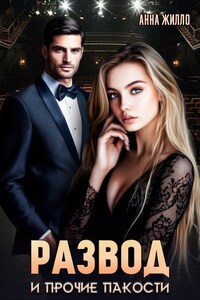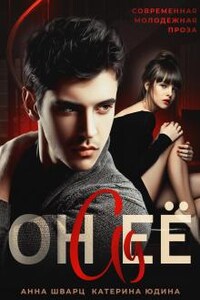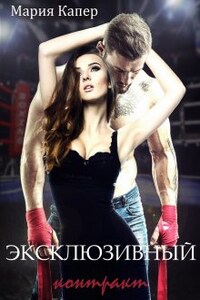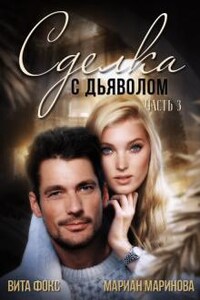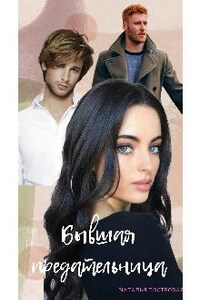Если бы Маську спросили, чего она не
любит больше: летать самолетом или ездить поездом, так сразу и не
ответила бы. Самолетом – привыкла, но боялась. Поездом – просто не
любила. Особенно ночью. Не спалось, и в голову лезло всякое. А
сейчас, после недели у Володькиных родителей, которые оценивали
каждый ее шаг, каждое слово, - и подавно. Ну вот хоть тресни, не
чувствовала она себя счастливой невестой перед свадьбой. В ее
представлении, невеста должна парить от радости в небе, а ей словно
по пудовой гире привязали на каждую ногу.
Это все нервы, сказала она себе и
перевернула на холодную сторону противно пахнущую железнодорожную
подушку. Еще три недели – и все будет позади. Сейчас вот вернутся,
начнут новую программу, сразу станет не до рефлексий. А там и
свадьба.
Телефон под подушкой квакнул –
пришло сообщение в воцап. Ничего себе, половина второго. Опять
сбились настройки, слетел ночной режим. Ну все, чувак, подписал ты
себе смертный приговор, пора менять тебя на новый, без обид.
«Масюнь, - писал Андрюша, - глянь,
какая цаца. Не службенное, не боись. Концертик. И что характерно,
редкость музейная, никто это не поет. Шарил – не нашел ни одной
записи смешанного хора. Только мужиковые».
К сообщению прилагались ноты. Нет
чтобы отложить до дома, но Маська тогда не была бы Маськой. Уж
лучше заняться делом, чем пялиться в верхнюю полку, слушать
перестук колес и думать всякие ненужности.
Выбравшись из-под одеяла, она
натянула спортивные штаны, нашарила под полкой сланцы. Покосилась
на бабку, храпящую на соседней нижней полке, поправила Володькину
руку, свесившуюся с верхней, вышла в коридор и села на откидное
сиденье.
Так, теперь можно и посмотреть, что
там за музейный концертик Андрей прислал с прицелом в новую
программу. Они пели церковное, но Маська принципиально не брала
ничего из того, что идет непосредственно за богослужением. С богом
у нее были свои отношения, в которые она никого не посвящала и
обсуждать не желала. Андрей и Алла параллельно пели в церковном
хоре – ее это не касалось. Под каждой крышей свои мыши.
«Се ныне благословите Господа».
Ипполитов-Иванов в обработке Чеснокова.
Маська чуть поморщилась. У любой
хозяйки есть такое блюдо, которое она хоть и умеет готовить, но с
некоторой опаской. С эдаким… душевным трепетом. У нее таким блюдом
почему-то стал борщ. А композитором – Чесноков. И дело было не в
церковности, не в сложности, а в какой-то особой энергетике его
музыки. Словно касалось она каких-то внутренних струн, которые
Маська предпочитала не задевать.
Наверно, стоило сразу закрыть и
ответить Андрюше, что это для них не подойдет. К тому же партитура
оказалась четырехголосной, значит, надо было самой дописывать
партии для двух дополнительных голосов, чтобы никто не ехал на
чужом горбу. Так уж у них повелось с самого начала: шесть человек –
шесть партий, никакого унисона. Но глаза уже скользили по строчкам,
а в голове пел хор.
Слух Маське достался от природы
гармонический, не абсолютный, но именно тот, без которого в
дирижеры лучше не соваться. Партитура для нее была не параллельно
текущими мелодиями, а чередой аккордов, поэтому, глядя на ноты, она
слышала произведение сразу так, как оно подразумевалось в задумке
композитора.
Уже после нескольких тактов Маська
поняла, что Андрюша не соврал. Это была бомба. Обманчиво просто, но
цепляло за живое. Пробирало до мурашек, до слез. Слова? Может, там
и были какие-то особые слова, но она в них не вдумывалась, да и не
слишком-то понимала по-церковнославянски. Главным для нее всегда
была мелодия. Особый язык, на котором разговаривают между собой те,
кому дано слышать.
Нет-нет, я не хочу ни о чем думать.
Я сейчас просто буду работать. Потому что мы однозначно это
возьмем. Надо прикинуть, как сделать дивизи*, где какие мины
заложены. Вот тут, например, Ирочка стопудово не споет большую
секунду вниз, значит, придется взять это себе. А вот тут Серега
запорет квинтовый ход, надо отдать его Андрюше.